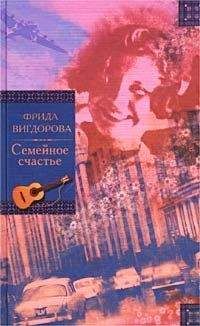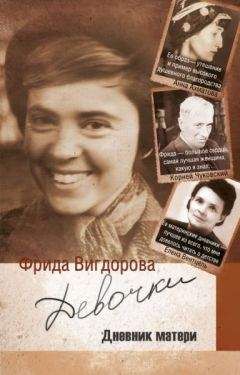— Его взяли в тридцать восьмом, — говорит Ирина. — Скоро десять лет, как мы в разлуке. Через год он будет на свободе, и я поеду к нему. А пока я пишу. Писать очень трудно. Когда говоришь, важен совсем не точный смысл слова, и никто не думает, не взвешивает, можно ли этим словам верить навеки, но каждый знает, что сейчас они правда. А когда пишешь… Когда пишешь, каждое слово требует, чтоб с ним обращались с умом.
Она говорит так открыто и бесстрашно, — Саша и не думала, что можно так говорить. Ее голос звучит как эхо Сашиной мысли:
— Не удивляйтесь тому, что я говорю, престо представим себе, что мы едем в поезде и больше никогда не увидимся. Тем более что мой поезд мчится невесть куда, и если я не соскочу на ходу…
— Об этом не надо.
— Ладно. Не надо. Но вот что я хочу вам сказать. Когда его взяли, меня вызвали к следователю и показали мне пачку писем — его писем к другой женщине. Я прочла только одно — больше не надо было. Я думала, что умру. Что было делать? Что бы вы сделали на моем месте?
Саша думает: я бы умерла. Но отвечает:
— Не знаю.
— Мне казалось, я знаю его как себя. Я думала, мне в этой душе все открыто, все ясно. И вдруг… Не смотрите так, это прошло. Вы ведь видите, что прошло. Я все эти годы писала туда, а сейчас решилась на операцию, чтоб быть здоровой и приехать к нему человеком, не обузой.
— Вы… все забыли?
— Забыла? Вот видите, рассказываю, значит, помню. Но я видела по его письмам, что он любит и мучается. Конечно, что-то живое во мне тогда умерло, но я тоже люблю. Меня только мучает, что я не могу ему этого сказать, меня мучают письма — и его и мои. Мне бы увидеть его хоть на минуту, и тогда бы я все поняла про него. И про себя.
Она умолкает. Саша тоже молчит, ждет.
— В романе у одного француза рассказана вот такая история. Муж героини уехал по делам, привычный уклад нарушен — не очень, может быть, интересный, но уже милый сердцу. И ей кажется, что она в любом случае и по любому поводу знает точно, что ее муж подумает, почувствует, скажет. И тут на глаза попадается забытый ключ от всегда запертого письменного стола. Она не удержалась, открыла ящик, а там хранится целая вторая жизнь, скрытая от нее, — незаконная дочь, любовная драма, тяжба о наследстве и прочее. Сначала она в негодовании, отчаянии, а потом начинает вспоминать всю свою жизнь — и убеждается, что у нее тоже есть свой "тайный сад" и она не имеет права упрекать мужа. Пусть по-прежнему обычная, будничная жизнь течет своим чередом, все в ней будет размеренно, до мелочей знакомо и привычно, а "тайный сад" цветет дурманом и маком в душе каждого человека, — да, кажется, так: дурманом и маком, — и трогать этот сад нельзя. Что вы на это скажете?
— Если называть тайным садом внутреннюю жизнь, то он есть у каждого. Но если это то, что непременно надо скрыть от самого близкого человека…
— У вас этого нет? Саша помедлила.
— Боюсь, мой "тайный сад" никому не интересен, кроме Меня, — сказала она. — В нем не растут ни дурман, ни маки. Так, какие-то очень простые цветы, одуванчики, что ли.
— Вы скрытная?
— Пожалуй.
— А я была очень открытым человеком. Но с тех пор, как я прочитала то, не мне адресованное письмо… что-то сломалось. И отношения с людьми становятся все более внешними, а душевная моя жизнь скрыта, и я, пожалуй, сама не всегда знаю, какие там цветут растения. Теперь я много молчу. Мне легко в классе, с детьми. Раньше я преподавала в вузе, но потом меня, конечно, уволили. И никуда решительно не брали. Я поняла, что пропаду. Подумала-подумала и махнула в Сибирь, в Заозерье, стала преподавать в пединституте. А про мужа ничего в анкете не написала. Скрыла. Если бы вы знали, как трудно было молчать. Я ничего не могла с собою поделать, мне надо было поговорить. И о себе рассказать, и другого послушать. Чтоб вокруг были люди. Без людей трудно. Может, и рыба привыкает к кипяченой воде. Но ведь и рыба иногда мечется в поисках свежего глотка. У меня были прямо-таки приступы тоски по человеку. И вот я очень подружилась с одним студентом. Он был уже на последнем курсе. Мы много разговаривали, читали стихи. И однажды я ему все рассказала. Вот — сказалось. Сорвалось с губ. Ну, а он… сообщил директору. Выполнил свой долг. Через несколько дней — приказ: уволили за сокрытие. Дорого мне достался свежий глоток. Я вернулась в Москву. Спасибо, из Москвы не выслали. Повезло. И еще раз повезло: меня на свой страх и риск взяла к себе в школу одна замечательная женщина. Не побоялась. И отстояла меня во всех инстанциях. Вот еще с ней мне легко говорить. И с вами! Я давно вас выбрала.
Она улыбнулась Саше. И, встретив этот пристальный синий взгляд, Саша сказала:
— Спасибо.
…Когда она легла, Саша обошла все свои палаты, потом заглянула в седьмую. Подошла к Ирине и провела рукой по ее щеке, будто это была Анюта или Катя.
— Не жалейте о том, что рассказали мне, хорошо?
— Зачем же?
— Бывает. Расскажет человек, а потом пожалеет. Не жалейте.
— Не буду.
…Вот уже полтора часа, как идет операция. Она продлится, наверно, еще час. Внизу, окаменев, ждут два мальчика. Есть ли на свете мука тяжелей ожидания? Все заняты, все что-то делают, а ты жди, и мучайся, и готовься к худшему. Они пришли с книжкой, но какое уж тут чтение. Застыв, смотрят перед собой. Вчера они сидели с матерью в саду до самого вечера. Она простилась с ними, поднялась на крыльцо и вдруг позвала:
— Погодите! Я хочу еще раз на вас посмотреть.
И они вернулись. Саша не могла забыть этих лиц и глаз.
Теперь она ждет сигнала, когда можно ехать за Ириной. Девушку, которой оперировали щитовидную железу, уже давно привезли, она сидит, распластавшись на высоких подушках. Ее оперировал Аверин, все хорошо.
А та операция еще длится. Саша спускается вниз, надевает маску и заходит в операционную.
— Зажим! На бронх! — слышит она голос Дмитрия Ивановича. Не поворачиваясь, он протягивает руку и берет зажим. Не оборачиваясь, каким-то боковым зрением, Королев видит Сашу и говорит:
— Я хотел оставить хоть несколько сегментов, не вышло. Все легкое поражено.
Рука Ирины беспомощно лежит вверх ладонью, будто прося. Запрокинутое спящее лицо безмятежно.
— Готовьте каталку, — кидает Королев Саше. Кровать на колесах уже давно готова. На белой простыне грелки — синяя, красная, зеленая.
Люба, сестра, которая дежурит сегодня вместе с Сашей, открывает дверь операционной и вкатывает туда кровать.
Шов как кривой частокол. Обнаженное тело перекладывают на теплые простыни. Осторожно. Тише! Укрыть. Грелки к ногам. Лифт поднимает их наверх, и Саша подкатывает кровать к палате. В дверях столпились больные — и те, у кого операция позади, и те, кто только ждет ее.
Глаза сочувственные — ах ты бедная! Глаза жадно любопытные, глаза испуганные — и со мной так же будет?
Взглядом, движением руки Саша просит отойти. Нехотя, медленно больные расходятся. Ирина спит. Саша подносит ладонь к ее губам — не дышит! Нет, дышит, дышит: тепло дыхания как прикосновение теплого ветра. Ее первые слова:
— Мальчикам… сказать… мальчикам… Мальчики ждут…Устала, — говорит она. — Уходилась…
Она засыпает и просыпается, она тихо стонет в забытьи. Саша дежурит вместе с Любой. Они привыкли друг к другу и действуют как один человек, понимая все с полувзгляда. Сегодня, кроме Ирины, еще двое после операции. Всем нужно неусыпное внимание, всем троим плохо. Но хуже всех Ирине. Надо следить за кислородными трубочками, следить, чтоб не отказала система переливания крови: неслышно капает из стеклянного баллончика кровь. Через стеклянную трубку, которая соединяет две резиновые, видно, как по капле, без стука, неслышно капает кровь.
Потом надо будет ввести в эту исколотую, измученную руку хлористый кальций. Потом…
Саша опомнилась, только когда пришла смена: Прохорова, ночная сестра. Саша сдает ей дежурство и… остается.
— Что ж не уходите? — спрашивает Прохорова. — Или дома делать нечего? Сидите, мне же лучше.
Саша остается. Ночь полна стонов, тихого бормотанья, жалоб, тоски. Скрипят полы в коридоре, за окном качается на ветру фонарь.
Когда Ирина в сознании? Когда бредит?
— Хотите, я прочту вам мои стихи? — говорит она.
— Не надо. Вы устанете.
— Нет, послушайте. Дайте руку. Как же там было…
И когда в одинокий полуночный час Задрожит, в испуге и погаснет свеча, Ты в последней нахлынувшей темноте Подведешь тихонько итоги потерь, Улыбнешься, как равный, в лицо судьбе, Ляжешь — и руки начнут слабеть.
Она умолкает, обессилев. И потом в забытьи говорит:
— Есть где-то на земле город… Там все по-прежнему…как в детстве… Я еще вернусь туда. И увижу свой дом. И печку, за которой мы шептались… — Открыла глаза, взглянула:
— Саша, это вы? У меня в тумбочке тетрадка. Когда-нибудь отдадите ему… Когда-нибудь… Или… когда подрастут дети…