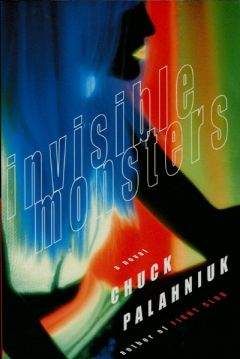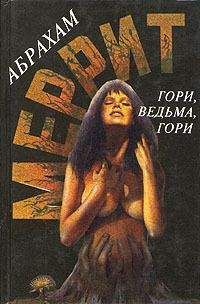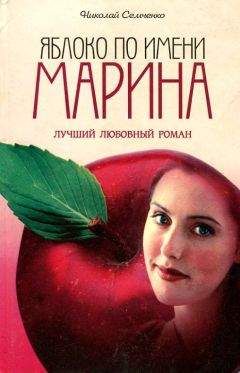С.-Петербург.
Человек из Тель-Авива
Яаков Шабтай. Эпилог. Перевод с иврита, послесловие Н. Ваймана. Москва — Иерусалим, «Мосты культуры», 2003, 335 стр
Роман Шабтая начинается словами: «В возрасте сорока двух лет… на Меира напал страх смерти; это случилось после того, как он представил себе, что смерть — реальная часть его жизни, уже перевалившей через вершину и идущей теперь круто вниз, и что он приближается к ней быстро и по прямому маршруту, и никуда от встречи не деться, так что расстояние между ними, которое… представлялось бесконечным, сокращается на глазах и становится легко обозримым и исчислимым в каждодневных житейских мерах, как-то: сколько пар обуви он еще сносит, сколько раз сходит в кино, со сколькими женщинами, кроме жены, переспит. Это осознание близости смерти, наполнившее его паникой и отчаянием, возникло без какой-либо видимой причины, выделившись из привычного кокона жизни, как легкая боль, вначале неощутимая, вдруг встрепенувшаяся где-то в глубине, а потом разросшаяся и набухшая, как неизлечимая язва; и вот с той минуты, как он проснулся утром и лежал с закрытыми глазами… и до того, как задремал ночью, обернувшейся чередой коротких обмороков забытья, он не переставал подводить жизненные итоги и измерять то расстояние, которое еще оставалось между ним и этой самой смертью…»
Это с каждой страницей убывающее расстояние Меир, рефлектируя, измеряет на протяжении всего романа. Он как бы попадает в воронку, которая медленно засасывает его. Весь роман он мается, мается, мается предстоящей смертью. Шабтай говорит о подведении жизненных итогов, но это скорей уж приличествующие случаю слова: Меиру нечего итожить. Автор подарил ему тонкость чувств в сочетании с совершеннейшей пустотой, смерть приближается, а в нем ничего не меняется, ничего не происходит, поэтому читать «Эпилог» порой невыносимо скучно: не спасает ни мастерство Шабтая, ни тонкость чувств Меира; его боль редко захватывает читателя, таких эпизодов мало — с пустотой трудно работать. Правда, говоря о читателе, я ведь достаточно простодушно имею в виду самого себя — читатель с большей эмпатией, глядишь, и отнесется к роману по-иному.
Меир жил, как все, ему не в чем раскаиваться, не о чем сожалеть. А впрочем, есть. К двум мучительным темам он постоянно и навязчиво возвращается: неизвестный мужчина, с которым переспала его жена, и женщины, с которыми переспал он и еще предположительно переспит; объекты того же ряда — обувь и кино — все-таки не занимают его воображения. Меир страдает, ибо, во-первых, каталог его сексуальных достижений унизительно мал — много, много меньше, чем хотелось бы и чем должно быть у настоящего мужчины. Во-вторых, техническая оснащенность Меира оставляет желать лучшего: существует столько замечательных поз, а он был поспешен, однообразен и нелюбопытен. И вот печальный итог: жизнь проходит, осталось всего ничего, конец приближается, а некоторые способы — он не то что их не попробовал, он о них просто не подозревал. Он хочет вон ту женщину, и ту, и эту, и с мускулистыми ногами, и с немускулистыми ногами, он вспоминает с горечью и болью о не реализованных в прошлом возможностях, о чем он думал раньше? Боль его столь велика, что время от времени, не в силах совладать с собой, он вынужден пускать в ход руки. Бедный парень!
Ницше задал вопрос: может ли осел быть трагическим? Шестов ответил: может — и привел в пример Ивана Ильича, незримо присутствующего в «Эпилоге» и пару раз даже упомянутого в разговорах. Шабтай интересовался русской литературой. В конце жизни Иван Ильич понимает, что жил неправильно, опыт болезни дает ему новый взгляд на жизнь и на смерть. Свяжи Шестов вопрос Ницше с Меиром, его ответ вряд ли был бы положительным.
Мера расстояния до смерти — в женщинах — выбрана Меиром не слишком удачно: он обогащает сексуальный опыт своего эпилога исключительно виртуально. Почувствовав, что зашел в жесткосердии чересчур далеко, Шабтай все-таки дает своему герою напоследок одну женщину вживую (как утешительный приз), и Меир переходит по мосту оргазма из ада, который он сам, без всякого давления извне, соорудил из своей жизни, в посмертный мир. Там он встречает тех, кого любил, не слишком многих: пару друзей, мать, бабушку, дядю (но не отца, не жену, не детей, от которых внутренне отчужден); обновленный Меир осуществляет наконец свои сексуальные мечты — все мечты в одном всепоглощающем акте, изживает боль, причиненную ему «тем мужчиной»: рана заживает, корка отваливается — и вот, покончив с прошлыми счетами и погуляв на воле, он рождается вновь.
Вариация одной из тем еврейской мистики.
Последние слова романа: «Кто-то, осторожно держа, приподнял его и сказал: „Какой красивый мальчик“». Красивый мальчик рождается, надо полагать, для того, чтобы прожить еще одну, столь же бессмысленную, жизнь. Все-таки везунчик. Мог бы родиться некрасивой девочкой.
В самом начале своего послесловия переводчик Наум Вайман определяет специфическое место романа Шабтая в израильской литературе: «Что меня сразу „порадовало“, в романе не было этой провинциальной — но маниакальной! — сосредоточенности на „евреях“, „еврействе“ и „еврейских судьбах“, наконец-то я прочитал роман о „нормальном“ человеке (вот еврей, а нормальный человек!), роман с общечеловеческой, экзистенциальной проблематикой. Это приятно освежало после царящей в здешней „художественной продукции“ тотальной идеологизированности, может, и понятной, но надоевшей уже настолько, что такой „незавербованный“ текст становится воистину глотком влаги в пустыне».
Риторика этого пассажа подходит скорей уж для газетной полемики, нежели для эссе, посвященного смерти. Кавычки в словах «еврей», «еврейство», «еврейские судьбы», «художественная продукция» должны очевидным образом передать читателю сарказм и отвращение Ваймана. Как все добрые люди, он относит атрибут нормальности исключительно к своей референтной группе, что было бы вполне «нормально», если бы само его послесловие не представляло собой философское эссе — жанр, предполагающий все-таки некоторый уровень рефлексии. Положа руку на сердце, я не могу понять, чем сосредоточенность на судьбе своего народа хуже, чем сосредоточенность на дурной бесконечности замкнутых на себя переживаний. Провинциальный-маниакальный! Пустыня израильской культуры! Какая, однако, энергия отталкивания!
Если отвлечься от переполняющих Ваймана эмоций, то в одном отношении он не прав чисто фактически: никакой тотальной идеологизированности в израильской литературе на иврите просто не существует — «Эпилог», исходя из критерия «нормальности» в понимании Ваймана, вовсе не является исключением. Более того, он находится в магистральном русле. «Основные интенции [литературы Израиля] ориентированы на космополитическую либеральную культуру Америки и Западной Европы <…> в глазах ведущих критиков и издателей специфически еврейское мироощущение и бытование кажется малоценным, не заслуживающим внимания» — вот констатация израильской исследовательницы Хамуталь Бар-Йосеф[13] (в отличие от Ваймана, совершенно безоценочная).
Я ограничусь здесь двумя очень разными в литературном отношении примерами, двумя книгами, вышедшими недавно в России. Роман Цруйи Шалев «Я танцевала Я стояла» (М., 2000) — одной школы с Шабтаем, поток сознания. Как и Меир, героиня романа превратила свою жизнь в ад, даже градусом повыше. А вот автор совсем из другой корзины, Этгар Керет, пишет короткие абсурдистские рассказы, где социально значимая проблематика если изредка и появляется, то только заниженно-иронически. Переводчик и автор предисловия Александр Крюков, отмечая, что «многие рассказы написаны без малейшего указания на национальность автора и героев, а также место событий», добавляет: «В этом — заслуга автора»[14]. Да что они, сговорились, что ли! Шабтай и Керет получают от любящих переводчиков медаль «За заслуги», открывающую вход в приличное (непровинциальное) общество.
Несмотря на то что ориентация «Эпилога» в полной мере соответствует характеристике Хамуталь Бар-Йосеф, это еврейский роман, и вовсе не только потому, что написан на иврите[15]. Конечно, человек с сознанием, подобным меировскому, мог бы жить где-нибудь и в Амстердаме, да только ведь сознание не существует само по себе: в Амстердаме и климат иной, и микроэлементы в почве другие.
Герой Шабтая — интеллигент, левый, секулярный, с постсионистским сознанием. Очень специфический психологический феномен, тель-авивский эндемик, явление чисто национальное. Идея выдохлась и стала нерелевантна. Мать Меира с грустью ощущает утрату идеалов юности и связанной с ними особой эмоциональной атмосферы. Сам Меир, во всяком случае каким мы видим его в переживании своего эпилога, никаких идеалов не утратил — создается впечатление, что их как бы и не было. Мать приехала в страну, которая действительно была для нее Страной Обетованной; для рожденного здесь Меира это словосочетание — привычное и бессодержательное словесное клише.