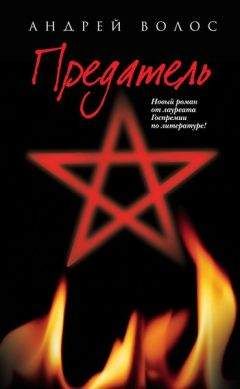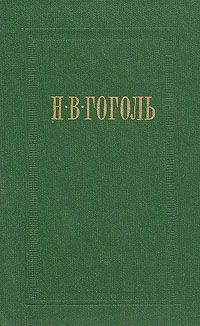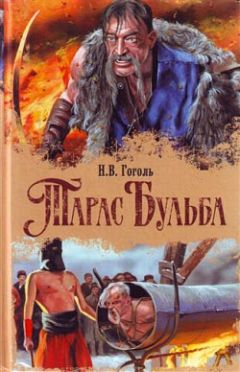Бронников недовольно кивал в ответ (зачем орать-то, елки-палки, на весь вагон!), тем более что скоро приметил, как странно клонит голову парень, стоявший метрах в полутора от них. Рослый парень, симпатичный. Брючки, рубашечка. Папочка под мышкой… Прислушивается, что ли? Ничего связного этот парень, конечно же, расслышать был не в силах — Бронников и сам половины не разбирал за железным ревом поезда, делавшим голос Юрца чужим и плоским; но отдельные слова — мог несомненно. А Юрец уже не раз выкрикнул и «лагерь», и «гэпэу», и однажды даже «эти бляди большевики», за что Бронников сунул ему локтем в бок.
— Да ладно тебе, ничего не слышно… Ну и вот!.. Он ей: тут, мол, лед один! А она в ответ: ничего! Ты, дескать, дай только, а уж я отогрею! И чуть ли прямо не вырвала у него эту кастрюлю! Распахивает зипунишко — под ним нет ничего, только ребра торчат, — а морозище! ветер! зима! чего ты хочешь — Свирьлаг!.. прижимает гребаную эту кастрюлю к лядащему своему тельцу!.. запахивает зипун!.. и садится на снег!..
Поезд зашатался, завыл — должно быть, под днищем вагона веером сыпались искры с тормозных колодок.
Но все же скорость падала, и по мере утишения бешеного разгона Юрец тоже маленько смирял голос:
— А он не понял сначала… оторопел как-то… а потом, уже когда в палатку вернулся, сообразил, что она задумала: растопить эту глыбу!.. глыбу замерзшей пищи!.. девяносто пять процентов воды, а остальное только свиньям!.. расплавить ее теплом тела!.. скелетика своего!.. а всей жизни в этом жалком скелетике и на десятую часть не хватит!..
— Станция «Бауманская», — сказал строгий женский голос в громкоговорителях.
— Тихо ты, — буркнул Бронников.
Несомненно, парень так и тянул шею, прислушиваясь. То есть как тянул? — не шею, шею не мог, это было бы заметно. Но уши у него прямо-таки светились от напряжения.
— И тут он опомнился, выскочил снова, — бормотал в ухо Юрец. — Она сидит в снегу, трясется вся. Он за кастрюлю. Она в крик: дяденька, не отбирай! Он ее швырком в палатку, объедки какие-то были, дал ей…
— Осторожно, двери закрываются! — сказала женщина еще более строгим голосом. — Следующая станция — «Электрозаводская»!
Двери схлопнулись.
— И вот тут-то он и пишет!.. что, мол, как же это они!.. То есть он-то пишет: мы! Как же это мы!.. Мы, взрослые люди России, тридцать миллионов мужиков!.. как могли допустить наших детей до такого?.. Ведь мы, он пишет, мы, русские интеллигенты!.. мы знали, чем была Великая французская революция! Могли себе представить, чем будет столь же великая революция у нас!.. Как же это мы позволили?! Как это мы все, все поголовно не взялись за винтовки?..
Бронников видел, что парень, повиснув на поручне, всем телом этак безвольно висит, длинной соплей стекая с хромированной железяки, будто так вот его и мотает на ходу вправо-влево… а на самом деле делает все, чтобы приблизиться к Юрцу еще хотя бы на сантиметр.
— Что помещики? Что капиталисты? Что профессора? Помещики, он пишет, в Лондоне, капиталисты — в наркомторге, профессора — в академии!.. А вот все эти безымянные мальчики и девочки!.. На костях миллионов таких скелетиков, пишет он, строится социалистический рай!.. И фотографию Ленина тут вспоминает! Есть такая, знаешь: Ильич в позе Христа, окруженного детьми: «Не мешайте детям приходить ко мне!» — Юрец визгливо рассмеялся, жестом пригласив Бронникова присоединиться. — И знаешь, что я подумал?.. Понимаешь, эта девочка, эта жалкая, истощенная, голодная девочка — это Россия! А ледяная кастрюля, глыба льда, равнодушного ко всему живому, — это власть! И бедной девочке никогда, никогда эту кастрюлю не согреть и не растопить! Так она и протянет свои лядащие ноги, нежно ее обнимая!.. Понимаешь?
— Станция «Электрозаводская».
Бронников схватил его за руку, яростно потянул, выволок на перрон.
— Что? Куда? Спятил совсем?
— Иди!
Когда двери снова зашипели, закрываясь, он оглянулся.
Нет, никого… парень не шел за ними… показалось, что ли?
Но ярость должна была найти выход.
— Ты идиот?! Что ты орешь на весь вагон?!
Юрец изумленно хлопал глазами.
— В Монастыревку хочешь?! В «Кащенко»?! Завидки берут?! Ленин! Винтовки! Почему не взялись за винтовки!.. Они тебе устроят винтовки, кретин!..
Голос гулко ахал под сводами пустой в этот час станции, и теперь уже Юрцу пришлось на него шикнуть:
— Ты сам-то что орешь?! Сдурел?..
* * *
В вагоне следующего состава обнаружилось свободное местечко. Юрец сел, котомку с банкой поставил на колени и заботливо обхватил руками — примерно как беременная свой живот.
Поезд вынырнул из туннеля, шел поверху, и Бронников смотрел на переливчатый, жемчужный цвет текучих облаков (дождь стал совсем мелким, чертил на окне изящно, по-японски), на ржавые ангары, железнодорожные тупички и сараи, уютные овражки с золотыми россыпями одуванчиков по краям, причудливые груды металлолома, малахитовую траву и лаково-изумрудную, не исчерненную еще гарью листву…
Сердиться на Юрца не хватало зла. Вот доведет, доведет до белого каления!.. а потом брякнет что-нибудь смешное или просто посмотрит со значением — и Бронников уже не понимает, с чего так кипятился минуту назад.
В институте его в насмешку звали Бывалым — потому что вечно он все, чего ни коснись, знал лучше всех, особенно если дело шло насчет вещей и дел малоупотребительных. Например, если надо выяснить, как свежуют сохатого и заквашивают верблюжье молоко или, например, каков точный порядок горячих блюд на уйгурской свадьбе — это к нему, конечно, к Юрцу, все расскажет как по писаному. Он был наполнен самыми разными и неожиданными сведениями (будучи собранными вместе, они должны были выглядеть неряшливой кучей разнородной мешанины): запросто мог процитировать полстраницы Вольтера по-французски, с легкостью переходя затем на английский, чтобы зачитать кое-что из Томаса Гоббса; через минуту, заговорив о музыке, спросить: «Помнишь, у Малера в Третьей симфонии — в самом начале, чуть ли не в пятом такте, — есть такое маленькое пиццикато?», тут же сделать заявление о рецептах варки датского пива и посетовать на качество отечественного. Кстати сказать, в пивных его всезнайство в сочетании с тем, что еще в девятом классе школы, то есть по меркам мирного времени чрезвычайно рано, Юрец порос мощной мужицкой бородой, производило временами эффект ошеломительный: из-за того, что посторонние выпивохи не понимали сути происходящего, пару раз дело едва не кончалось мордобоем.
Над ним всегда беззлобно потрунивали. Великан Сема Берман по прозвищу «Полторак» как-то раз, когда Юрец заявил, что по части выпивки может обставить любого и вызвался допить ополовиненную, а затем с неудовольствием отставленную Берманом кружку пива, хмуро заметил, что, дескать, да, спору нет: пить больше всех и допивать за всеми — это и есть дело настоящего мужчины…
Нелепая страсть к экзотическому имела под собой, как полагал Бронников, тоску по перевоплощению: Юрцу было скучно изучать технологии загрузки кокса, и потому он, приехав в числе иных студентов-практикантов на Днепровский металлургический комбинат им. Ф. Э. Дзержинского, в первый же день, бродя по окрестностям и наткнувшись на какую-то барахолку, обзавелся пошитыми явно еще до Гражданской войны просвечивающими на заду штанами-галифе. Не смущаясь тем, что завязочки древних штанин болтаются над цивильными ботинками, Юрец маршировал вдоль прокатного стана, горланя что-нибудь вроде:
Играет гитарос и дудос,
Играет и такос и сякос, —
Это идут барбудос,
С песней идут в бардакос!..[2]
Изумлению чинных местных инженеров не было предела…
Через неделю на той же барахолке купил отчаянный Юрец и хромовые сапоги. Став в сильную копеечку, они подняли его облик от деревенского придурка до фольклорного героя вроде матроса Железняка. В ночь после их приобретения Бронников проснулся от непривычного звука. В шестиместной комнате общежития плавал стеклистый свет уличных фонарей; Юрец, занимавший соседнюю койку, заворочался, и снова что-то заскрипело. В конце концов Бронников приподнял одеяло: Юрец спал обутым, сапоги жали, и когда он во сне сучил ногами, пованивающая кожа отзывалась бодрым скрипом…
Сапоги повлекли за собой новое приключение: вечерами Юрец стал таскаться на конезавод; вернувшись, горделиво повествовал об особенностях разной сбруи, аллюрах, породах; ахалтекинец и кеглян, бабки и камарги, мундштук и гонтер, ковка и сыромять, гвозди и зацепные отверстия, вальтрап и капцунг — все это из него так и сыпалось. Он выклянчил у Мити Карпова байковую жилетку с замшевыми боковинами, а у Машки Козловцевой — алую, искусственного шелка, косынку; ходил с палочкой и называл ее «стеком», а бороду всякий раз тщательно расчесывал и одеколонил.