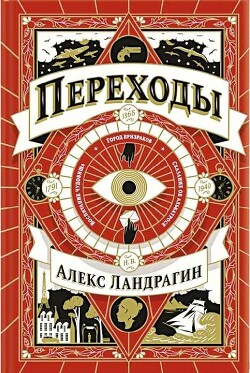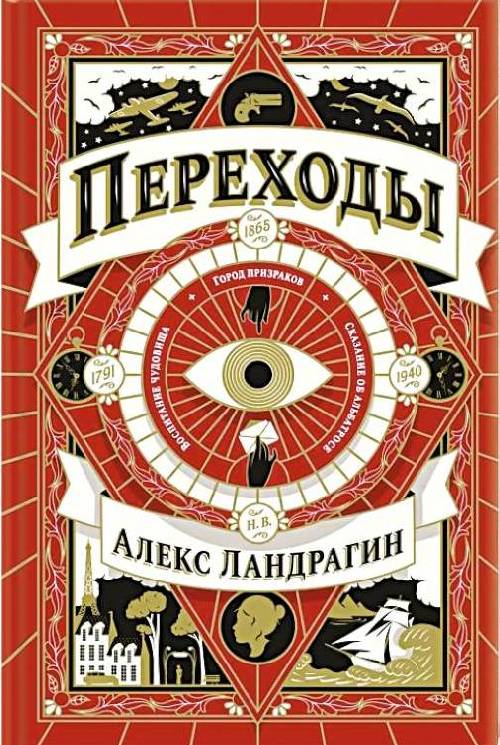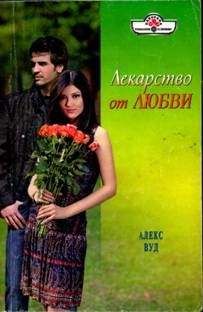Видимо, ждал меня. Но за все это время — ни намека ни словом, ни делом, хотя он наверняка понимал, что и я его подозреваю тоже. Почему? С тех пор мысли мои часто возвращались к этому вопросу, и единственный ответ, при всей его неудовлетворительности, сводился к памяти о том первом его взгляде на меня девять лет назад, при первой встрече в вестибюле Бодлеровского общества. Видимо, душа Жубера нашла неожиданное успокоение в нашей дружбе — облегчение от того, что в противном случае вылилось бы в невыносимое одиночество его бытия. Ведь Франция belle epoque, в которую он вернулся, не имела почти ничего общего с революционной Францией, из которой он уехал несколько поколений назад. Поскольку моя душа была единственной на свете, по-настоящему знавшей его и его тайны, он проявил в отношении меня то, чего от него совершенно невозможно было ожидать: милосердие. Милосердие, совокупившись с одиночеством, превратилось в любовь.
Удовлетворительного объяснения так и не прозвучало, но, как мне представляется, не одно лишь горе заставило Матильду исчезнуть перед моим возвращением. Двойная утрата, да еще при столь ужасных обстоятельствах, сына и Эдмонды, помрачила бы и самый крепкий ум, но, по всей видимости, дело было не только в этом. Артопулос к тому моменту уже вступил в Бодлеровское общество, — судя по архивам, он стал первым новым членом едва ли не за десять лет. Полагаю, что после вступления он в своем характерном псевдоаристократическом духе прибрал бразды правления к своим рукам, Матильда же оставалась главой разве что номинально. А потом, — как я полагаю, вскоре после известия об убийстве Люсьена и Эдмонды — между ними случилось нечто, что подтолкнуло ее к бегству. Что бы это ни было, речь шла о поступке злокозненном, безжалостном, непростительном. Матильда так мне всего и не рассказала, а то немногое, что открыла, приняло форму оговорок и намеков, мне же вспоминалась встреча с Мехеви на острове несколько десятилетий назад, так что новых объяснений не понадобилось. После этого я крайне осмотрительно вел себя в обществе Артопулоса, зная, что он унаследовал жестокосердие Мехеви; множество крошечных шагов с моей стороны привели к постепенному охлаждению нашей дружбы.
После воссоединения я снял Матильде комнату на улице Фобур Сен-Дени и позаботился, чтобы она жила безбедно. Часто ее навещал, общество друг друга было нам очень приятно. Однажды мне даже удалось вынести из библиотеки Бодлеровского общества рассказ Шарля и прочитать ей. Она слушала без прежнего сопротивления. Страх перед собственной смертностью изменил ее отношение к переходам. Она наконец-то уверовала в то, что мне не удавалось втолковать ей столько лет, и решила предпринять следующий переход. Книгами она торговала по-прежнему, выискивая таким образом новое тело. Единственная проблема, сетовала она часто, в том, что никто не хочет смотреть старухе в глаза.
Весной тысяча девятьсот тринадцатого года меня вызвали в больницу Отель-Дьё к женщине, которая тем самым утром впала в одном из кафе на бульваре Сен-Жермен в состояние фуги. Оказалось, это Матильда: глаза широко раскрыты, губы невнятно шепчут немецкие слова, голова трясется, будто в изумлении, — все симптомы смятения, в которое впадает плененная душа после перехода. Я спросил у доставившего ее в больницу полицейского, известно ли, что произошло. По словам свидетелей, доложил он, в момент происшествия она гадала туристу-немцу — и это был ты. Что именно произошло дальше, загадка: немец с места происшествия исчез. Больше полицейскому сказать было нечего.
Облегчение оттого, что Матильде все же удалось совершить переход, смешивалось с сожалением: плохо, что это иностранец. Какова вероятность, что пути наши пересекутся снова? Матильду пришлось поместить в дом для престарелых. Меня не покидала мысль: может, мне удастся перейти в ее тело и выведать имя этого человека, но она, увы, так и не оправилась от фуги и несколько месяцев спустя умерла во сне — незадолго до того, как Европа начала раздирать саму себя на части. Она похоронена на пригородном кладбище, на надгробном камне высечены только ее инициалы.
Оба мы с Артопулосом сразу после объявления войны записались добровольцами. Меня направили в медслужбу, он получил офицерский чин в кавалерии. Война лишь сильнее отдалила нас друг от друга. Первое время мы переписывались, однако военный конфликт затянулся, и его бесчеловечность разбила фальшивый каркас нашей и без того уже сомнительной дружбы. Письма становились все реже и все сдержаннее, потом прекратились вовсе.
Вся моя терапия строилась на слепых переходах в тело пациента — имелись в виду переходы, о которых пациент впоследствии не вспомнит, у него сохранится лишь слабое остаточное чувство психологического облегчения или освобождения. Речь идет о высочайшем, наиболее эзотерическом типе перехода. Я совершал его сотни, а может, и тысячи раз — и ни разу ни один пациент не давал мне понять, что хоть что-то запомнил. По крайней мере, так оно было до следующей моей встречи с Мадлен два дня спустя. Не знаю как и почему, но что-то пошло не так. Видимо, то, что рано или поздно я допущу ошибку, было неизбежным. Может, я подсознательно хотел допустить эту ошибку. Или же меня просто измучило нашествие душевно покалеченных людей, которых я лечил в последние три года. Вероятно также, что встреча с Артопулосом разбередила мне душу сильнее, чем я сам это сознавал. А может, дело было в самой Мадлен.
Расчет мой, как всегда, строился на том, что после обратного перехода Мадлен ничего не вспомнит. Но как только первый переход завершился, стало ясно: схема сломалась. Какой-то просчет или недочет в применении моего метода, потому что, пока душа моя исследовала тело и разум Мадлен, а девушка находилась на стуле возле кушетки в моем теле, она вдруг со мной заговорила.
— Я прошу вас, — произнесла она моим голосом. — Позвольте мне не возвращаться.
— Что-что?
— Позвольте мне не возвращаться, — повторила она с большей настойчивостью.
— Куда не возвращаться?
— В мое тело. В Мадлен. Не заставляйте меня. Прошу вас.
— Вы хотите остаться в теле пожилого мужчины?
— Да.
— Я не могу этого позволить.
Меня объял ужас, когда Мадлен-в-Бальтазаре поднялась со стула, угрожающе нависла надо мной и очень медленно прошептала:
— Вы не заставите меня вернуться в это тело.
— Напоминаю, вы находитесь под воздействием гипноза, в это состояние введены добровольно. Когда я отдам вам приказ, вы снова посмотрите мне в глаза и вернетесь в тело, принадлежащее вам по праву, — в тело Мадлен Блан.
Бальтазар помедлил, будто размышляя, не взбунтоваться ли, но по прошествии долгой секунды откинулся на спинку стула, и пора было приступать к обратному переходу. Пришлось как никогда тщательно позаботиться о том, чтобы не оставить у Мадлен ни следа памяти о случившемся, однако, естественным образом, оно и меня ошарашило не на шутку. Вера моя в собственные способности пошатнулась. Технология перехода основана на особого рода незамутненности рассудка. Препятствия, отвлечения, препоны могут сорвать весь процесс. Когда обратный переход завершился, Мадлен не высказала ничего ненадлежащего, но выражение ее лица говорило мне, что в состоянии ее рассудка присутствует некая ненормальность. Она вглядывалась в меня со смесью изумления и подозрительности, ничего не имевшей общего с глубокой подавленностью, которой был отмечен весь ее облик до перехода.
— Что только что произошло? — осведомилась она.
— Вы находились под гипнозом.
— Как долго?
— Чуть более получаса, в соответствии с нашей договоренностью.
— И что в это время происходило?
— Вы пребывали в состоянии глубокой релаксации.
Больше она на эту тему не заговаривала, но когда мы перешли к анализу, держалась отрешенно и настороженно — мы ничего не достигли. Сеанс завершился до срока.
Мошенник живет в постоянном страхе катаклизма — разоблачения. Через несколько дней я получил письмо из медицинской ревизионной комиссии. Там говорилось, что в отношении меня начато расследование — в связи с жалобой пациента. Имени жалобщика не называлось, но я тут же подумал про Мадлен. Моя методика будет рассмотрена на следующей неделе комиссией из трех специалистов: Гюстава Русси, Андре Лери и Жак-Жана Лермитта. Все явно было подстроено, как будто кто-то поставил себе сознательную цель меня дискредитировать. Я знал, что у меня есть враги как в армейских, так и в медицинских кругах — методы мои некоторые коллеги считали подозрительными, в частности еще и потому, что не могли их воспроизвести. Мой главный недруг Лери, чемпион по применению электрошока, с враждебностью относился к любому врачу, который пытался лечить контузии психоанализом. Гипноз он считал шарлатанством.