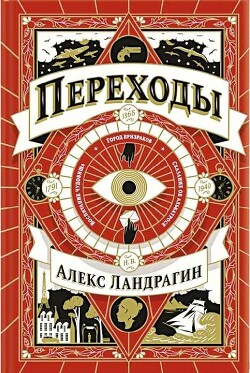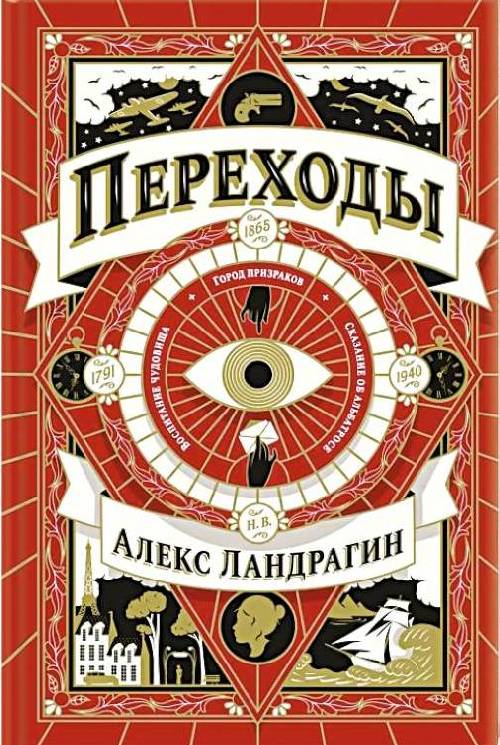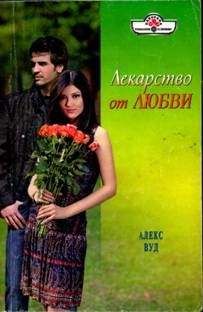Я тем временем продолжал лечить пациентов. Избегал Артопулоса — отменял сеансы, подал рапорт, чтобы его передали другому аналитику. Тем не менее я ежедневно навещал его в палате, пусть и всего на несколько минут, понимая, что присутствие посторонних исключает откровенный разговор: ему приходилось и при мне симулировать все свои симптомы. Он же при каждой встрече умолял его загипнотизировать. «Не мне решать, старина, — отговаривался я. Но сильно тревожился. За все семнадцать лет нашей дружбы Артопулос никогда не проявлял в отношении меня ни малейшей враждебности. Если один из нас лелеял желание навредить другому, в прошлом у нас осталась масса упущенных возможностей. Я чувствовала за Артопулоса определенную ответственность — он сам мне сказал давным-давно, что он — чудовище, созданное моими руками. Я его творец, единственное, что связывает его с прошлым. Но война все изменила, дружба наша осталась в мире, которого больше не существовало.
В день проверки я сидел в кабинете, в дверь постучали. Вошла Мадлен.
— Мадемуазель Блан, — сказал я. — Я вас не ждал нынче утром.
— Почему?
— Сегодня будут проверять мою работу. В три часа я встречаюсь с членами комиссии в большом зале.
Она посмотрела на меня в замешательстве.
— Вам наверняка об этом сказали. Вы подали на меня жалобу, и мне теперь предстоит доказывать действенность моих методов перед комиссией из трех врачей.
— Я не подавала жалобы.
— Не подавали?
— Ваши методы полностью меня устраивают, профессор.
— Значит, это был другой человек.
Я попался в ловушку. Артопулос заставит меня загипнотизировать его перед членами комиссии. Воспользуется этим для совершения перехода. Я отправлюсь в окопы — в его теле. Условное перемирие между нами завершилось.
— У меня есть единственная жалоба, — продолжила она, — и я уже высказала ее раньше, под гипнозом.
Я прикинулся дураком.
— Можете напомнить?
— Если существует возможность перехода в другое тело, я хотела бы ею воспользоваться.
У меня мелькнула мысль: похоже, все мои шарады закончатся в одночасье. Осмыслив свое положение, я понял, что изворотами и отрицанием ничего не добьюсь.
— Мадам, буду с вами честен. Что-то пошло не так. Вы должны были все забыть.
— А я помню. Абсолютно все. И главное, что я помню, это свою мысль: я не хочу возвращаться. Я это сказала искренне, профессор. И по-прежнему так думаю.
— Вы имеете в виду, что готовы отказаться от молодости, здоровья и красоты ради того, чтобы прожить остаток дней в теле немолодого холостяка?
— Я хочу жить другой жизнью. А своей не хочу. Слишком это мучительно. Вы не понимаете? Я смотрю на себя в зеркало чужими глазами — человека, который меня любил, которого я любила, единственного, кого буду в этой жизни любить. Мне больно смотреть на себя. Я не могу погасить эту любовь и, видя себя, каждый раз про нее вспоминаю. Чтобы жить полной жизнью, я должна покинуть это тело — или сама отнять у себя жизнь.
— Но вас столько ждет в будущем, столько еще впереди!
— Вы так считаете? Я вдова и сирота. Нищая. Образования почти никакого. Что меня ждет, если любовь мне не суждена? Замужество без любви? Воспитание детей от нелюбимого человека?
— Вы можете стать медсестрой. У вас это явно хорошо получается.
— Когда война завершится, медсестры вряд ли будут кому-то нужны. Нет, впереди у меня пустота. Долгая, бескрайняя пустота. — Она повернулась, обвела взглядом кабинет, и я сделал то же самое, вслед за ней посмотрел на книжные полки, картины и свидетельства на стенах. — Но если бы, — продолжила она, — я смогла провести остаток своих дней в вашем теле, то, хотя количество этих дней и уменьшится, они будут отраднее. Меня будут окружать книги и роскошь. Я стану образованным человеком и ни в чем не буду нуждаться. Буду лечить людей, вращаться в высших кругах. Если мне станет скучно, я смогу просматривать ваши воспоминания и вновь переживать ваши многочисленные приключения. Полагаю, что ваших воспоминаний мне с лихвой хватит на всю жизнь. Ну и, понятно, немалое преимущество заключается в том, что я стану мужчиной. — Она повернулась ко мне, взяла мои руки в свои, посмотрела умоляюще: — Что скажете, профессор Бальтазар? Согласитесь вы меня освободить?
При взгляде в ее темные глаза мне в голову пришла мысль: пожалуй, следует предупредить ее касательно ревизионной комиссии, Артопулоса, Матильды и рукописи Шарля. Но вдруг она тогда передумает? Решит, что ее собственное тело и собственная жизнь не так уж невыносимы? Но эти размышления прервал возникший знакомый трепет удовольствия на первых подступах к переходу. И стало ясно: она уже знает все, что ей нужно знать.
[159]
Мадлен Блан
Дата рождения: 1898
Первый переход: 1917
Бальтазар сидел на стуле совсем рядом со мной, глядя куда-то в пустоту. В первый миг я испугалась, что по ошибке совершила слепой переход.
— Как вы себя чувствуете? — спросила я.
Бальтазар покачал головой, будто оправляясь от удара.
— Вроде неплохо.
— Сожалений не испытываете? — спросила я. — Не передумали? Когда я выйду за дверь, обратного пути не будет.
— Нет, — ответила Мадлен. — Вы исполнили мое желание. Я вам чрезвычайно признательна.
Я расспросила его: нынешнее имя, прежнее имя, где мы находимся, какой нынче день недели, кто является президентом Республики — он все вспомнил.
— Вы не в состоянии фуги, и это хороший знак, — сказала я. — Но должен предупредить: вам придется крепко собраться с мыслями. Прямо на сегодня назначен трибунал по поводу ваших методов лечения. — Договорив, я заметила, что он вспомнил об этом, кивнул, соглашаясь. — Вас попросят загипнотизировать человека по имени Аристид Артопулос. Настоятельно советую пересмотреть в мыслях историю ваших отношений. — Бальтазар кивнул: в голове у него начали всплывать воспоминания об Артопулосе. — Ни в коем случае не смотрите ему в глаза, в противном случае он перейдет в ваше тело. А вам, уж поверьте, этого совсем не нужно.
Обмен рукопожатиями с Бальтазаром, содрогание при мысли о том, что может произойти. О том, что весь план его порушен, Артопулос догадается мгновенно. Наша дружба, уж какая бы там ни была, в это мгновение будет убита и похоронена. Артопулос направит имеющиеся в его руках почти безграничные ресурсы на то, чтобы выследить меня, только на сей раз не будет ни пощады, ни сообщничества. А значит, мне нужно исчезнуть. Перед Артопулосом у меня единственное преимущество: он не знает, как я выгляжу. Ему придется довольствоваться описанием: молодая женщина азиатской внешности, с непонятным иностранным акцентом, — если он проведет тщательное расследование, возможно, узнает и имя. Итак, из лечебницы Вильжюиф я бежала в чем была. Села на пригородный поезд до центра Парижа, отправилась в швейное ателье в квартале искусств и ремесел — его содержала семья вьетнамцев, которую я знала с детства. Я знала: они меня не выгонят. У них и оставалась до конца войны. Документы свои сожгла, взяла фамилию Блан. С тех пор жила, скрываясь.
Увы, тому, что пл ан провала для себя Мадлен в обличье Бальтазара, сбыться оказалось не суждено. Через две недели его убили в собственной постели. Газеты писали, что, когда его обнаружила квартирная хозяйка, он был мертв уже двое суток. Глаза оказались вырезаны. У Артопулоса было железное алиби: он по-прежнему находился в клинике, лечился от последствий контузии. Как и в случае с Эдмондой и Люсьеном, он заказал убийство Бальтазара, — вероятно, непосредственным исполнителем стал Ренан, лакей из Бодлеровского общества, а возможно, другой его сообщник. Символический жест — вырезанные глаза, — разумеется, предназначался исключительно для меня. Тем самым он не просто демонстрировал свою мощь, я усмотрела в этом некий зловещий посул. Отныне ценою моей свободы станет мучительная гибель ни в чем не повинных людей.
В обычных обстоятельствах такое убийство вызвало бы в Париже скандал. Но беспрестанная бойня, не прекращавшаяся всего в дне пути от Парижа, сделала его жителей нечувствительными к отдельным проявлениям жестокости. Смерть Бальтазара быстро забылась. Его похоронили вместе с Эдмондой и Люсьеном в склепе Бодлеровского общества на Монпарнасском кладбище — да, именно там, где нам с тобой суждено было встретиться двадцать три года спустя. Не каждый день доводится человеку поучаствовать в собственных похоронах. Церемония была скромная и прошла в дождливое утро. Я стояла за спинами небольшой группы собравшихся, скрыв лицо под вуалью. На похороны собралась всего-то дюжина человек, и я узнала их всех: пациенты Бальтазара, тоже состоявшие в Бодлеровском обществе. Был, разумеется, и Артопулос, сидел рядом с могилой в инвалидном кресле, которое прикатил Ренан. Он все изображал судороги от контузии, хотя — я это заметила — они сделались слабее, он явно симулировал постепенное выздоровление. Рядом с ним стояла женщина яркой внешности, с квадратным подбородком — раньше я ее никогда не видела. Впоследствии выяснила, что имя ее Габриэль Шанель, но она более известна как Коко.