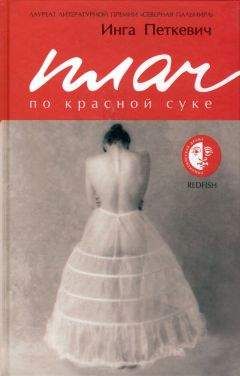Я сражалась с ними всю ночь напролет, проклиная своего беспутного мужа, который напрочь застрял в Москве и, похоже, обзавелся там новой семьей. Он так меня измотал, что я почти рада была от него избавиться, но уж больно обидно было прийти к сорокалетнему рубежу таким банкротом, что даже Новый год встретить было не с кем.
А под утро меня разбудил телефонный звонок, и дерзкий юношеский голос предложил мне, нет, скорей, приказал в шесть часов вечера спуститься вниз к почтовому ящику и вынуть из него письмо, которое он не может послать по почте.
Похмельная тревога стремительно перерастала в панику, и в ожидании назначенного часа я в смятении металась по постылой, после вчерашнего, квартире. Почему-то я была убеждена, что ничего отрадного мне это письмо не сулит.
Однако ровно в шесть часов вечера, как мне было приказано, я спустилась вниз к почтовому ящику, отперла его и достала письмо. Обратного адреса не было, не было и штемпеля на конверте, да и сам конверт из грубой оберточной бумаги, бандерольного размера, был какой-то гадкий, серый, канцелярский.
Я еще вертела письмо в руках, когда дверь на улицу широко распахнулась и в ярком дверном проеме возникла мужская фигура. Как зверь, загипнотизированный светом фар, я замерла в косых лучах заходящего солнца, ослепленная, обалделая от ужаса. Я сразу же поняла, что меня заманили в ловушку, поджидали и караулили тут, чтобы…
Как видно, у меня был еще тот вид, потому что молодой человек вдруг рассмеялся и сделал шаг навстречу.
— Не бойся. Это тебе от Ирмы Соколовой, — быстро сказал он.
И тут я узнала его. Это был твой сын. Но факт этот почему-то еще больше ошеломил меня. Все перемешалось в моем похмельном сознании. Почему-то показалось, что ты жива и пишешь мне теперь из Германии. Ведь я не была на твоих похоронах и не видела тебя в гробу. Они вполне могли распустить ложные слухи о твоей смерти — с отъезжающими людьми всегда старались сыграть какую-нибудь злую шутку… Но в таком случае почему твой сын оказался тут? Может быть, он не уехал вместе с тобой, попал в дурную историю и нуждается в моей помощи?
— Прочти письмо, и ты все поймешь, — сказал он в ответ на мой затравленный взгляд. — Возьми! — Он сунул мне в руки объемистый пакет, завернутый в старые газеты.
— Значит, она жива? Ты пришел от нее?
Он ничего не ответил и только в дверях оглянулся, окинул меня последним оценивающим взглядом, открыл дверь и разом вдруг растаял, исчез в солнечном сиянии, как звездный мальчик.
— Господи! Что же это делается, Господи? — в смятении простонала я, разглядывая пакет.
Потом я вдруг подумала, что твой сын начал писать и поэтому придумал такой хитроумный ход, чтобы всучить мне для ознакомления свою рукопись.
Нетерпеливо разрывая газету на пакете, я поднималась по лестнице, и тут меня ждал очередной сюрприз — дверь в мою квартиру была распахнута настежь. Не сразу вспомнив, что сама оставила ее в таком положении всего десять минут назад (мне казалось, прошло несколько часов), я вся покрылась холодной испариной и уже готова была засунуть злополучный пакет в ближайшее ведро для отходов, чтобы милиция, которая производит обыск в моей квартире, не поймала меня с наркотиками… Позднее (всего через полчаса), прочитав твое письмо, я поняла, что страхи мои были не напрасны. С момента, как я взяла в руки твое письмо с того света, дверь ловушки автоматически захлопнулась за мной, захлопнулась на долгие годы…
Вот это письмо. Оно напечатано тобой на нашей канцелярской машинке.
«Дорогая моя подруга по несчастью! Ты получишь это письмо 1 января 1982 года. Не раньше и не позже. Так я распорядилась, потому что мне было важно, чтобы к моменту получения письма ты догнала меня по возрасту. Мне хотелось, чтобы ты самостоятельно прошла по всему этапу нашего каторжного пути вплоть до сорокалетнего рубежа, когда я лично поставила точку. Мне важно, чтобы, прежде чем ты прочтешь мои записки, ты повторила мой путь. Только догнав меня по возрасту, ты сумеешь разобраться в них, понять меня и мою цель. Мне не хотелось раньше времени навязывать тебе свою волю и свою эстафету.
Я буду разговаривать с тобой с того света. Можно сказать, что и пишу я тебе сейчас с того света, потому что уже давно, безнадежно и необратимо мертва, как мертв и весь мир вокруг меня. Мне жаль тебя, я прекрасно отдаю себе отчет, какую жуткую ношу взваливаю на твои плечи, но мне больше не к кому обратиться. Не удивляйся, что поначалу мои записки адресованы не тебе. Да, вовсе не с тобой я разговаривала, не к тебе обращала свою исповедь. Но по мере того как я углублялась в наши дебри, становилось очевидным, что адресат мой ошибочен. Незачем перегружать информацией немощную старуху, особенно иностранную. Все равно она ничего не поймет в нашей реальности, только зря перепугается. А для меня важно, чтобы моя рукопись не погибла и нашла хотя бы одного читателя.
Тебе, только тебе я передаю эстафету своей жизни и смерти. Я надорвалась от этой непосильной ноши, и, наверное, ты тоже надорвешься, но, может быть, вдвоем нам удастся донести ее до цели. Знаю, тебя напугает мой страшный дар, но мужайся и не ропщи. Если ты взяла в руки перо, у тебя нет другого выхода, как помочь мне, — это твой долг, долг твоей гражданской совести, иначе и твоя, и моя жизнь будут напрасны. Мужайся. Отбрось в сторону свои насущные дела, любимые рукописи и помоги мне донести мои записки до читателя. Я сознаю, что проделала только половину пути, но сил больше нет — я умираю. Заверши труд моей жизни, тогда смерть моя будет оправданна и ты сможешь спать спокойно. Только навряд ли сон твой уже и теперь спокоен. Прости меня, заранее прости. Господи, помоги нам! Прости и помилуй!
P. S. Большая часть рукописи адресована лично тебе. Догадайся, в какой точке я поменяла адресата. — Ехидный смешок с того света. — Мертвецы тоже имеют право на свой загробный юмор.
„Страшный Суд“ — черная тетрадь, можешь рассматривать ее как попытку художественного осмысления нашей реальности. Отдаю себе отчет, что с материалом я не справилась, хоть все это вовсе не материал и не сон. Дарю тебе этот загробный сюжет. Но от вас — мой мир загробный, от нас загробным является как раз ваш — зеркальное отражение. Помнится, мы с тобой как-то говорили об этом.
Если возьмешь мою эстафету, то заклинаю тебя не делать из этого материала литературное произведение. Это документ, и должен оставаться только документом. Не вся правда нашей жизни может стать предметом литературы — многие пласты туда не лезут. Если наша жизнь стала такой грязной, страшной и вонючей, то нельзя поднимать ее до уровня литературы. Мы погрязли с головой в болоте лжи, пьянства и блядства. Только жесткая, суровая и трезвая правда, как твердь земная, может нас спасти. Литература тут ни при чем.»
Вот какой подарок я однажды получила от тебя с того света. Подарок, который не то чтобы перевернул мою жизнь, точнее, направил ее по твоим рельсам, по твоей колее. Да, он заставил меня свернуть, отклониться от собственной жизненной траектории. Я тащусь по ней до сих пор и, проклиная тебя за подвох и насилие, никак не могу из нее выбраться.
Наверное, когда мне удастся настигнуть тебя, мне тоже не будет пути из загробного мира обратно. Но уже поздно пятиться, спасти меня может только завершенное дело. Когда я полностью обработаю твои записки, переведу тебя живую и мертвую в литературный ряд, когда рукопись наша дойдет до читателя, тогда придет освобождение, только тогда я избавлюсь от эстафеты, которую ты мне так коварно всучила. Только когда я передам эту эстафету другим людям, я буду полностью свободна и смогу вернуться к собственным замыслам и помыслам, которые помогут мне выбраться из этой преисподней на свет Божий. Но навряд ли этот номер мне удастся — из загробного мира живыми не возвращаются. А если все-таки вырулю, то… Но пока что об этом рано даже мечтать. Пока я обязана буксовать на твоей колее и ломать голову на твоих виражах. Согласна, это долг моей гражданской совести. И клянусь тебе, пусть ноша мне и не по силам, я донесу ее до людей во что бы то ни стало.
Я иду по твоим стопам, и нет конца пути. Я вязну в глубоком грязном снегу. В глухую морозную ночь я вышла из дома и бреду за тобой вдогонку где-то в районе новостроек, между проспектом Стойкости и улицей Счастливой. Транспорт давно не ходит, и прохожие исчезли, и все темно вокруг. Как бы мне не замерзнуть в пути.
Это были три общие тетради — черная, зеленая и голубая. Они были пронумерованы, но цвет, я думаю, не имел значения. Бегло ознакомившись с их содержанием, я поняла, что все они велись параллельно. Это не было последовательное изложение материала ее жизни, и на дневник это тоже не походило.
Все три рукописи отличались по форме и по содержанию.
Первой значилась черная тетрадь под заглавием «Страшный Суд». В ней Ирма пыталась осмыслить факт собственной гибели. Рукопись была невнятной и сумбурной, как сновидение, и я долго ломала голову над ее расшифровкой. По логике вещей смерть должна стоять в конце жизни. И если даже Ирма получала какие-то сигналы с того света в виде вещих снов и откровений, то все равно им уместнее находиться в конце рукописи.