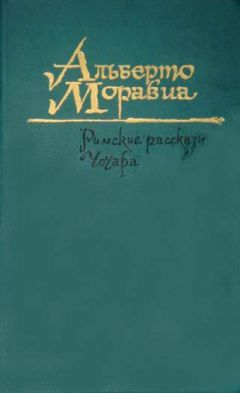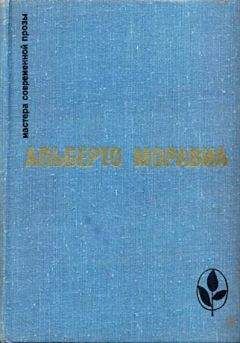— Видишь, это они играют, — вполголоса сказал я Валентине.
Но в этот самый момент раздался чей-то крик: «Тишина!» — который заставил меня подскочить на месте, так как я решил, что он относился ко мне. Мы подошли ближе и позади этой полукровати увидели киноаппарат, вокруг которого собралась довольно большая группа людей. Где-то наверху, в темноте павильона, словно куры на насесте, сидели еще какие-то люди. Бедной полуобнаженной актрисе пришлось еще раз заламывать руки, а мужчина должен был снова заносить над ней кулак. Затем кто-то схватил две дощечки и, взмахнув рукой, щелкнул ими, точно кастаньетами. Вслед за этим послышался новый вопль, требовавший тишины, и затрещал съемочный аппарат. Аппарат трещал и трещал, а актриса, лежа на постели, продолжала ломать руки, и актер, опустив наконец кулак, ударил ее и, должно быть, всерьез, потому что она застонала, и, по-моему, это не было притворством.
Такой представилась мне студия, когда я впервые попал туда, и такой же она должна была показаться бедняжке Валентине, так долго о ней мечтавшей, но никогда не видевшей ее прежде.
Затем раздался возглас: «Стоп!», и треск прекратился, актриса поднялась с постели, лампы погасли, и все кругом задвигались. Я понял, что настал удобный момент, и, подойдя к одному из рабочих, спросил:
— Скажите, пожалуйста, где можно найти синьора Дзангарини?
— А кто такой Дзангарини? — спросил рабочий не очень приветливо.
Я смутился. К счастью, в разговор вмешался другой рабочий, оказавшийся полюбезнее.
— Дзангарини? Его здесь нет… Он в третьем павильоне.
Мы поспешно вышли и, пройдя по территории студии, направились к павильону № 3. Нам пришлось снова открыть такую же тяжелую дверь и войти в павильон, очень похожий на первый. Съемка здесь не производилась; тут было много света и много людей, которые о чем-то шумно спорили. Мы подошли к ним, но не слишком близко, потому что нас испугали их дикие крики. Казалось, они были чем-то не на шутку взбешены. Один из этих людей, тощий, как гвоздь, в очках в черепашьей оправе и с длинными черными усами, плясавшими над белоснежным рядом зубов, орал, размахивая руками:
— Не подходит, не подходит, не подходит…
— Но почему же не подходит? — спросил его какой-то человек, который и оказался Дзангарини.
— А потому, что он чересчур симпатичен, — продолжал кричать усатый. Потому, что у него лицо честного парня… А мне, наоборот, нужно лицо преступника, бандита, лицо Вараввы…
— Тогда возьми Проетти.
— Нет, нет, он тоже слишком симпатичен. Простодушный малый, одним словом — добряк… Не подходит, не подходит…
— Возьми Серафини.
— Не подходит, не подходит… Серафини не просто добрый человек — это ангел, больше того — серафим… Кто поверит, что он способен на дурной поступок?.. Кто поверит?
Я понял, что мы пришли не вовремя, но делать было нечего: явился на бал — изволь плясать. Улучив момент, когда режиссер, продолжая кричать и жестикулировать, куда-то отошел, я приблизился к Дзангарини и тихо сказал ему:
— Синьор Дзангарини, мы пришли.
— Кто это мы? — спросил он раздраженно.
— Синьорина Валентина, — ответил я, становясь в сторонку. Валентина подошла и сделала легкий поклон. — Синьорина из отдела посылок. Вы просили ее прийти.
Должно быть, Дзангарини обо всем забыл. Он посмотрел на Валентину, казалось, что-то припомнил и, стараясь придать мягкость своему голосу, сказал:
— Мне очень неприятно, синьорина, но у нас ничего нет для вас.
— Как же так? В пятницу вы говорили, что вам нужна именно такая девушка.
— Была нужна… Но теперь уже не нужна; мы ее нашли.
— Но позвольте, — вспылил я, — разве так поступают?.. Сначала пригласили, а потом заявляете, что нашли другую.
— А что я могу поделать? — воскликнул Дзангарини.
Я уже готов был нагрубить ему, когда неожиданно раздался громкий крик:
— Вот он!.. Вот он!.. Это как раз то, что нам нужно!
Это кричал режиссер. Он стоял теперь передо мной со сверкающими глазами, тыча мне в грудь указательным пальцем.
— Но кто — он? — спросил я растерянно.
— Вы негодяй, — заорал режиссер, — вы соблазнитель женщин, вы бандит, сводник… Ну, разве не так?
— Как вы смеете так говорить, — ответил я, чувствуя себя оскорбленным. — Я государственный служащий… Меня зовут Ренато Париджини.
— Нет, вы негодяй, тот самый негодяй, который нам нужен… Вы, с вашим лицом, именно то, что я искал… Вы негодяй!..
Кто знает, чем бы все это кончилось, если бы в дело не вмешался Дзангарини. Он объяснил мне, что они как раз подыскивали для небольшой характерной роли человека с лицом негодяя, что мое лицо вполне им подходит и что, если мне угодно, проба может быть сделана тут же. А Валентина?
— Нет, это впустую. У нас таких сколько хотите, — снова заорал режиссер в порыве восторга. Но заметив слезы в глазах Валентины, он спохватился и участливо прибавил: — Синьорина, сегодня нам требовалось лицо негодяя, и мы нашли его… Когда нам понадобится лицо ангела, мы вспомним о вас.
С этим мы и ушли. Но как только мы оказались за пределами студии, на поросшей травой улочке, Валентина отошла от меня и всю дорогу не проронила ни слова. На трамвайной остановке стояла обычная толпа. Валентина растерянно оглянулась. После того, как она уже размечталась о богатстве, ей, должно быть, показалось унизительным ехать в трамвае, точно бедной девушке.
— Пока, Ренато, — сказала она неожиданно, — я возьму такси, мне некогда… Я не приглашаю тебя ехать со мной, ведь мы живем в разных концах города.
И не дав мне опомниться, она, вместе со всеми своими бантиками, двинулась через залитую водой улицу по направлению к стоянке такси.
С тех пор я больше не видел ее, так как на следующий же день на студии была сделана проба, которая оказалась удачной. После этого я начал сниматься в кино и с того времени почти не прекращал этого занятия. Я наспециализировался на эпизодических ролях — в том числе и бессловесных бандитов, развратников, мошенников, шулеров, воришек и им подобных, А недавно я встретил одного из прежних товарищей по работе на почте и от него узнал, что Валентина обручилась со служащим из отдела «До востребования», который находится через четыре окошечка от нее.
Меня вечно преследуют неудачи, и я уверен, что в день моего появления на свет в небе сияла какая-нибудь несчастливая звезда или комета, а может, и какое-либо другое зловещее светило.
Помню, познакомился я как-то с одним механиком, который поехал работать во Францию, а потом вернулся. Он тоже жаловался, что ему не везет. Этот механик связался с какими-то парнями и ездил с ними ночью по городу на автомашине; подъехав к магазину, они прикрепляли цепь к железной шторе, потом машина трогалась, штора срывалась и, свертываясь, поднималась кверху, а они заходили в магазин и грабили. Так вот, у этого механика на груди была татуировка — гильотина, а над ней надпись: «Pas de chance», что по-французски означает: «Не везет!» Когда он играл своими мускулами, то казалось, что нож гильотины вот-вот сорвется и упадет; при этом он обычно говорил, что его ждет именно такой конец. Правда, на гильотину он не попал, но в тюрьму все же угодил на пять лет. Мне, пожалуй, тоже не мешало бы иметь такую надпись на груди, а еще лучше на лбу: «Не везет!» Я делаю то же, что и все, только у других это получается, а у меня нет. Значит, я невезучий, и уж ясно — кто-то желает мне зла, а вернее, весь мир ополчился против меня.
Я всегда старался работать честно — конечно, не честнее, чем другие, ведь, в конце концов, все мы рождаемся с грешками, и только один бог безгрешен. Вскоре после женитьбы я открыл на деньги жены сапожную мастерскую. Выбрал я квартал, где проживали разные служащие, и не ошибся. Дело в том, что служащие, бедняги, берегут свою обувь. Они работают в учреждениях, а поэтому у них должен быть приличный вид, они не могут ходить, как мы, простолюдины, в рваной обуви. Моя мастерская находилась в самом центре квартала, среди больших домов, в каждом из которых насчитывалось, самое меньшее, тысяча жильцов. На той же улице, как раз напротив меня, работал другой сапожник — полуслепой старик лет семидесяти. В тот день, когда я открыл свою мастерскую, он заявился ко мне и устроил скандал. Это был злой старикашка с совиными глазками, и моя жена даже посоветовала мне остерегаться дурного глаза. Я не послушался ее и плохо сделал. Сначала все шло гладко; я был ловким и симпатичным парнем, во время работы любил напевать, а для служанок, приносивших мне чинить хозяйскую обувь, всегда находил ласковое словечко, всегда шутил с ними. Моя мастерская превратилась чуть ли не в салон, ко мне приходили со всего квартала, и довольно скоро я переманил к себе всех клиентов старого сапожника. Старик злился, но поделать ничего не мог, так как я к тому же, стараясь избавиться от конкурента, брал за работу меньше. У меня, ясно, был свой план, и как только я увидел, что вся клиентура перешла в мои руки, я стал его осуществлять. Я применил систему чередования: одному клиенту ставил кожаную подметку, другому — из заменителя. Так продолжалось некоторое время. Когда же я увидел, что никто этого не замечает, я совсем осмелел и начал всем без разбора ставить картонные подметки. Правда, это был не обычный картон, а синтетический продукт, изготовленный во время войны, и я готов поклясться, что он был чуть ли не лучше кожи. Итак, работал я усердно, был всегда весел, всегда любезен, всегда в хорошем настроении, и все меня любили, за исключением, конечно, старика-сапожника. Я начал прилично зарабатывать, и как раз в эту пору у меня родился первый сын. Но однажды приключилась беда — один из починенных мною башмаков разъехался. Как это случилось, не знаю; возможно, виной тому был дождь. Пострадавший клиент явился ко мне с жалобой. И тут, как нарочно, все мои ботинки стали расклеиваться. А что в таких случаях бывает, всем известно: один сказал другому, и по всему кварталу пошли толки и пересуды, ко мне перестали ходить, и все вернулись к старику. Сидя у окна своей мастерской, старик теперь посмеивался и только знай постукивал молотком да подшивал подметки. А я тем временем надрывал глотку, пытаясь всем объяснить, что не моя здесь вина, что меня надул лавочник, но никто мне не верил. В конце концов нашелся человек, который откупил у меня мастерскую, а я взял вырученные за нее гроши и покинул квартал.