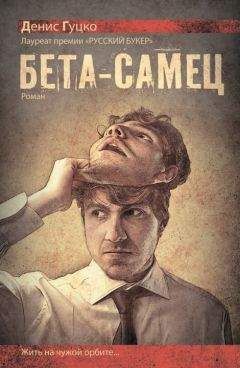С её лица смотрели не настоящие, будто из чьей-то фотографии вырезанные глаза. Оля стояла как-то очень угловато и неудобно, порываясь то к входной двери, то к телефону, висящему на стене. Она принялась кричать, но крик оборвался, так и не успев развернуться: Толик ударил её в живот. Она ёкнула и осела Мите на руки.
— Закрой дверь, — сказал Толик, и Митя закрыл, толкнув коленом.
Толик стремительно прошёл по прихожей мимо зеркала и свернул в сторону кухни. Пока Митя тащил корчащуюся, шумно сопящую от боли Ольгу, Толик пошёл по квартире. Комната, в которую Митя втащил Олю, выглядела безысходно. Из мебели в ней оказались диван, стол и три стула. Зато её наполняли пустые трёхлитровые банки, монитор без системного блока, горшки с геранью, стоящие прямо на полу, пачки из-под чипсов, стопки газет и клочья свалявшейся пыли, покатившиеся прочь от Митиных ног.
— Откуда ты взялся, урод? — выдавила из себя Ольга. — Из-за тебя он сорвался. Разнервировал ты его.
Митя усадил её на диван, и тут же из соседней комнаты его позвал Толик.
Он вошёл в соседнюю комнату. Низко развалившись на раскладушке, спиной к стене, сидел Олег. Его белые руки лежали на простыне как связанные в пучок верёвки. Лицо у Олега отсутствовало — это зрелище прожгло Митю животным испугом, но он заставил себя всмотреться. Он видел кожу, облегающую череп, с тенями и бликами в положенных местах, видел сухие с белёсым налётом губы, прикрытые веки с остренькими волосками ресниц, даже микроскопические волоски на кончике носа. Всё это он видел, но это уже не составляло человеческого лица. Олег был одет в сорочку с длинным рукавом, штанов на нём не было. Митя с отвращением посмотрел на его безволосые ноги, вытянутые на середину комнаты.
Нужно было развернуться и выйти. Но какое-то странное любопытство, паразитирующее на страхе, цепко держало его на месте. «Боже, — думал Митя. — Вот это им двигало? Обманул, и здесь обманул. Спрятался, гад. Наверное, укололся, когда я болтал с его женой».
Митя и не заметил, как Толик выходил. Теперь он подошёл сзади, сказал:
— Бесполезняк, это я тебе сразу говорю.
— Что? — тихо переспросил Митя.
Он испугался, что Олег может расслышать… открыть глаза… подняться и заговорить.
— Ооо, брат, — усмехнулся Толик. — С такими нервами лучше дома сидеть. Телек будешь забирать?
— Что?
— Телевизор будешь забирать? Здесь больше взять нечего. И то, блин, на четыреста баксов этот телевизор вряд ли потянет, максимум — двести. Слушай, я с тебя тащусь просто, Митя. Как ты умудрился наркоману поверить? Вот этого члена тряпичного, — Толик показал пальцем на Олега, — ты за зама Бирюкова принял?!
В дверь позвонили. Требовательно и протяжно.
— Оленька! — послышался из тамбура голос соседки.
И следом, после второго звонка:
— Откройте, милиция!
Толик печально покачал головой.
— А этого я, кэ цэ, не учёл, — сказал он разочарованно. — Навык уже не тот.
Он оживился, на цыпочках бросился в комнату, в которой лежала на диване Ольга.
— Соседка не знает? — зашептал он. — Э! Хватит страдать, уже прошло давно. Соседка знает?
— Нет, — ответила, всхлипнув, Ольга.
— Менты? Уже цепляли вас, нет?
— Нет.
— Кэ че, так. Открываешь и говоришь, что мы его знакомые. Типа школьные друзья. Да. Он устал вчера, спит. Мы ждём, пока проснётся. Сегодня — чё-нибудь, ну — юбилей вашей свадьбы. Никакого заявления, ты поняла?
— Пятого мая, — сказала она.
— Чего?
— Пятого мая. Свадьба у нас была пятого мая, — повторила Оля и зарыдала в голос.
— Тихо, — зашипел на неё Толик. — Всех вломишь, дура е…тая! Твой же хрен уколотый лежит. Вставай, вставай и иди к двери.
Послышался скрип дивана.
— Морду вытри! — скомандовал ей Толик, подведя её к ванной а Мите, — Его положи по-человечески, укрой чем-нибудь.
Ольга в ванную не зашла. Утёрлась сгибом локтя, всхлипнула, глотая недоплаканные слёзы и рвавшийся из горла вой, и шагнула в сторону двери. Толик с Митей сели на кухне, наблюдая в зеркало, висящее в коридоре, как в квартиру вошла, с гвоздиками и тортом, испуганная соседка, а за ней — два милиционера.
— Сука! — это слово она проговаривала как положено — хлёстко, не по-женски.
Фонарь ещё раз сморгнул и уронил тусклый жёлтый луч. И тут же подвал, вспыхнувший было щербатыми стенами и чёрными тенями, ушёл во мрак. Заканчивался заряд батареи — в самый неподходящий момент.
— Ой-ёй-ёй, — вздохнула она нараспев.
Подобрав до самых бёдер своё концертное — рабочее, как она его называла — платье, Люся спустилась по гулким бетонным ступеням. По поводу того, почему в коридоре подвала после ремонта не включаются лампы, Арсен что-то говорил, но запомнились только армянские ругательства — и те приблизительно, на слух. Ей понравились эти фразы, похожие на застрявший в горле барабан. Она вообще любила слушать иностранные ругательства. Ей казались забавными эти клокочущие абракадабры: ругательства-бессмыслицы, ругательства, лишённые грязной начинки — лишь голая энергия непристойности.
От фонаря было мало толку, но всё же она плескала жиденьким светом по сторонам, чтобы отпугнуть крыс. Когда в темноте за спиной затонули ступеньки, она принялась напевать.
«Не сняв плаща, не спрятав мокрый зонт, Не расчехляя душу».
Блюз почти созрел. Целый день она напевала его про себя. В такие дни она бывает рассеяна, Митя называет её «полу-Люся» и забирает из её рук стеклянную посуду. Блюз почти созрел, томил, повис в голове словно тяжёлое, готовое сорваться яблоко.
Давным-давно, ещё когда она была с Генрихом, она поделилась с ним. Они лежали, смотрели на луну в распахнутом окне. Луна рассеяно смотрела на лежащих в кровати людей, люди рассеяно смотрели на луну. И Люся напела Генриху свой блюз. Он выслушал молча и сказал:
— Я в принципе не понимаю, зачем петь блюзы по-русски? Бывают, конечно, исключения, но… Извини.
Больше она к этому не возвращалась. Возможно, теперь он изменил своё отношение к блюзам на русском. Как-то он обронил: «Может, попробуем твои?». Но она ответила, что давно ничего не сочиняет, да и старое забыла. Многое она и вправду успела забыть.
Гражданин, с которого начался этот её блюз, был скорее всего одиноким пенсионером, гуляющим перед сном. Хорошо сохранившийся — самому себе в тягость сохранившийся пенсионер. Взял зонт и пошёл по улицам. На кухне у него лабораторная чистота, мебель натёрта полиролью с запахом персика, тапочки выстроились в шеренгу, ждут его возвращения. По крайней мере, таким она его придумала. Гражданин сидел в плаще, опершись на ручку зонта, с которого вовсю стекал дождь, и старался не чавкать ботинками в разлившейся под столом луже. Он был прям и выверен, ни одного случайного угла. Отставной генерал, решила она. Люся как раз вышла к микрофону, и, оглядев зал, заметила его — и ей пришлось махнуть Генриху, чтобы проиграл вступление “Dead Road Blues” ещё раз: сбилась.
Он просидел в «Аппарате» не больше пяти минут. Посмотрел на лужу под столом, и вышел.
«Не расчехляя душу…». Следующие две строчки она забыла.
— Крыски, вам нравится?
Хвостатые тени мелькали под трубами, перебегали коридор впереди, в жёлтых кляксах света. Нужно попросить, чтобы потравили. В последние дни их заметно прибавилось. То ли уборщица экономит на отраве, то ли крысы к ней привыкли. Хотя с другой стороны, эти хвостатые тени держат её в тонусе.
«Не расчехляя душу». Никак не могла вспомнить следующие строчки. Люся точно помнила, они были — и ей нравились.
— Сука! — сказала она опять, на этот раз задумчиво и грустно.
Обходя бурые лужи, в которые падали капли с потолка, она старалась светить под трубы, себе за спину, и тогда не было видно, куда ступать. Каблуки неуверенно царапали по бетону. Лужи, наконец, закончились, и она могла идти, светя себе под ноги. В принципе, она довольна этим подвалом. Здесь до неё не так-то непросто добраться. Вот только крысы. Постепенно Люся научилась жить с крысами. Учуют страх, могут напасть — это она запомнила крепко-накрепко. Надо же, единственные слова матери, которые остались в памяти. Ей было шесть лет, она играла возле лестницы с куклой Катей, как вдруг из угольного подвала с истошным криком, в белом облаке хлорки выскочила баба Зина. Люся не сразу узнала её, таким неожиданно звонким был её голос, обычно скрипящий, хрипящий и булькающий. Баба Зина широкими шагами мчалась через двор. Хлорное облако вылетало из полупустого мешка, которым она размахивала во все стороны — наверное, не догадываясь бросить. А следом, изогнув по-собачьи хвосты и высоко поднявшись на быстро семенящих лапках, бежали крысы. Их было пять или шесть, но казалось, что они затопили весь двор. Они мелко лязгали зубами и время от времени стремительно, будто их выстреливали, выпрыгивали вверх. И с неожиданной прытью баба Зина шарахалась от их бросков. Они потом вернулись к себе. Походили туда-сюда, пошевелили усами, глянули своими чёрными бусинками в сторону ворот, за которыми яростно материлась баба Зина, и ушли в подвал. Их покатые спины, припорошенные белым порошком, сверкали под солнцем. На лестнице стояла мать и, резко отряхивая мокрые руки, кричала через двор бабе Зине: