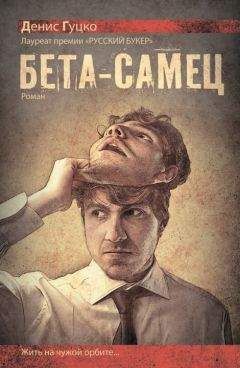— Учуют страх, могут напасть! А ты как думала?!
Ночью Люсе снилось, как крысы средь бела дня гуляют по двору, поднимаются по ступеням, чему-то смеются, собравшись в тесный кружок, курят и открывают о железные перила пиво.
Идти было недалеко, до газового вентиля и направо.
— Всё, крыски, концерт окончен.
Дверь бывшей бытовки бледно освещалась через крошечное слуховое окно в тупике слева. Окно протыкало тротуар прямо под фонарём, и чёрные тени прохожих проносились в нём как мимолётные затмения. На двери, как в голливудских фильмах про шоубизнес — большая золотая звезда. Рисовала собственноручно, получилось немного криво. Витя-Вареник держал банку с краской и качал головой: «Ну, Люська, ты экстремалка!». Возле двери к стене привинчена выпуклая, как на вагонах, табличка с таинственным словом «дефектоскоп». Один из самых старых и любимых экземпляров её коллекции. Однажды ночью, переодевшись во всё чёрное, как нидзя, она пробралась в железнодорожное депо, над которым по железному мостику каждое утро ходила в консерваторию, и сняла эту приглянувшуюся ей табличку с вагона. Табличка упала, оглушив её, разбудив сторожа в дальнем конце депо. Сторож побежал за ней, припадая на одну ногу и призывая какую-то Белку. Белки на Люсино счастье поблизости не оказалось, и она ушла в дыру кирпичном в заборе. То был не самый её опасный поход за трофеями, но почему-то вот зацепился, запал. Быть может, внезапным ужасом, рождённым упавшей табличкой, или жалостью к сторожу, гнавшемуся за ней, так тяжко припадая на ногу, или резкой сменой запахов: после жирного мёртвого запаха мазута в депо — запах сирени в переулке, в который она нырнула, выскочив наружу.
Внутри её каморки светло до рези в глазах. Как во рту на приёме у стоматолога. Она покупает самые мощные лампы. Лоснятся всевозможные таблички, рассыпанные по стенам, на столе ноты и англо-русские словари. Облезлый буфет со стеклянными дверцами заполнен туфлями. Люся прикрыла дверь поплотнее и пнула лежавший прямо у порога фанерный щит «Осторожно, проводятся стрельбы». Щит отскочил к буфету, но всё равно остался лежать весьма неудобно. Она выключила окончательно ослепший фонарь и прошла к трельяжу. Медленно опустила голову и смотрела в глаза своему отражению — исподлобья, пристально, будто ожидала увидеть там что-то важное.
— Переживая дождь как нехороший сон, — вдруг вспомнила она и отвернулась от зеркала.
Точно!
Оставалась четвёртая строчка. «Не сняв плаща, не спрятав мокрый зонт, Не расчехляя душу… Переживая дождь как нехороший сон, Пережидая жизнь как вечерок досужий».
«Записать, что ли», — в который раз подумала она, но в который раз не стала.
Когда в Бастилии стали поговаривать, что Шуруп на зоне поклялся Люську покарать, а откинется он не в этом, так в следующем году непременно — Люся продала свою комнатку и поселилась здесь, в подвале «Аппарата».
Стас говорил: «Башню сорвало, Люсь? Почему бы не снять квартиру?». Тогда в каждом бродил кураж, часто пили и часто смеялись. Отыграли первый концерт в клубе «Аппарате», выступили на радио. Строили планы и собирались в Москву. Тогда впереди ласково мерцали звёзды и элегантные бутылки благородных оттенков. Вспоминая свист и аплодисменты в только что открывшемся «Аппарате», легко было мечтать о лёгкой сытой жизни. Лёгкая сытая жизнь под голодные горькие песни…
Даже Арсен, когда она объяснила ему, что хочет обустроиться в подвале, крутанул пальцем у виска. Витя-Вареник говорил: «Сняла хату — и живи как люди. Человек блюза — не псих, понимаешь? Живёт плохо, но мечтает жить хорошо, понимаешь?». Она ничего не стала им объяснять. Всё равно — спросят, а сами не дослушают. Её слушают только когда она поёт, что в принципе, странно: каждый новый блюз она подолгу переводит с дюжиной словарей, разыскивая специфические негритянские словечки, а среди слушателей вряд ли собирается больше одного-двух знатоков английского за раз.
Зато ей часто приходится выслушивать других. Её пытаются урезонить, уговорить, обучить здоровому образу жизни, спасти от очередной фатальной ошибки. Она терпеливо слушает. Слушает — а мир, ясный и понятный, смирно стоит перед ней, не шарахается, даёт себя разглядеть и потрогать. «Люська, — говорит наедине Генрих на правах бывшего. — Перестань над собой экспериментировать, ты же не лягушка. Хочешь, пропустим через тебя ток — но зачем же селиться в подвале?». Как бывший Генрих идеален. Никаких двусмысленностей при посторонних, никаких домоганий от нечего делать. Даже Стас и Витя-Вареник, появившиеся в «Аппарате» уже после того, как между ними всё было кончено, ни о чём не догадываются. Генрих образцовый мужчина. Наверное, она не умеет любить образцовых мужчин.
Она не думала, что с Митей будет надолго. Спустя столько лет, когда всё давным-давно сгорело, Люся ожидала от романа со старым другом совсем другого. Лёгкой грусти пасмурным утром на тёплой кухне, под шипение конфорок и стук ветки в окно. Быть может, окончательного успокоения: да сгорело, сгорело, не бойся, не обожжёшься. Переспать с тем, кого когда-то любила, чтобы убедиться, что больше не любишь — это было правильное решение. Она была уверенна, что всё случится так, как она ожидала. Что, взяв в руки его лицо, она скажет ему как нашкодившему, но прощённому ребёнку: «Ууу, противный». Не сказала.
— Люсь, пойдём ко мне… в…
— В постель, что ли?
— В гости…
— Ой, Мить, у тебя лицо сейчас глупое.
Она отправилась к Мите запросто, подтрунивая над сковавшим его смущением. Она решила даже не отменять свидания с мальчиком Славой на следующий день. Но на следующий день Люся не смогла себя пересилить, на свидание с мальчиком Славой не пошла. Просидела до вечера в своём бункере, бренча на гитаре. Она-то понадеялась на время: Люся ясно чувствовала его резвый бег, оно несло её как машина, разогнавшаяся на шоссе — когда задремав, приоткрываешь глаза, видишь в окнах рваные смазанные силуэты, и догадавшись: не доехали — снова засыпаешь. Их должно было за столько лет отнести друг от дружки на недосягаемое расстояние. Но оказалось, что Митя никуда и не сдвинулся, так и стоит точнёхонько там, где они когда-то расстались. В тот вечер, когда он впервые стоял перед нею голый, взяв её за руку и лирически заглядывая в глаза, она вздрогнула: это был тот самый Митя, растерянный мальчишка в темноте чужого города. И рядом с ним она показалась себе той самой Люсей, что так по нему сохла, и ждала, что он заметит, и сочиняла для него глупые вздыхательные стихи, которые никогда ему не показывала.
Она снова повернулась к зеркалу и строго взглянула на своё отражение. Предстояло причесаться. Это требовало серьёзного настроя. Её волосы — история непостижимого подлого бунта, отнимающего уйму нервов и времени. Они неукротимы. Вырываются из-под любой заколки, и если постричь, после первого же душа встают над головой пушистым каштановым взрывом. Каждый вечер она выходит на люди с гладко зачёсанными волосами, голова как спичечная головка. Часа через два, если не отлучаться нарочно для того, чтобы поправить волосы, на голове вырастают мочалки. Напоминание о начальной школе, о тех трудных временах, когда они, ещё не подвергнутые «химии», притягивали нездоровое внимание мальчиков.
Увы, даже самой дорогой «химии» хватало разве что на месяц.
Автоматическими движениями она выдавливала гель на гребень, морщась, тащила его ото лба к затылку — и перехватив расчёсанные волосы другой рукой, зажимала в кулак.
«Зачем в принципе петь блюзы по-русски», — сказал Генрих. Зачем она вообще начала петь блюзы? Наверное, из-за него. Самый первый спела только для того, чтобы ему понравиться, в гостях у его друзей. В консерватории она никогда не интересовалась блюзами. Старалась как все, пыхтела на сольфеджио, училась технике звукоизвлечения. Но заглядывая иногда на занятия по вокалу, Пётр Мефистофелевич, послушав её пару минут, начинал топать ногами и шипеть (последствия ангины): «Стоп! Что за вой?! В Гарлем! В кабак!», — и, театрально заломив руки, выбегал из класса. Он вообще не любил девочек, и кричал на всех. «На рынок! Селёдкой торговать! Кто вас сюда принял, кто?». На него не очень-то обращали внимание. Некоторые преподаватели просто-напросто запирались от него на щеколду. Но про Гарлем и кабак он кричал только ей. С него и началось.
Второй куплет она помнила. «А сердце — скоропортящийся груз, И так длинна, длинна ночная ходка. Наплюй на всё: здесь продаётся блюз. И водка».
Почему-то она запоминает всё, что её окружает в тот момент, когда новая строчка вспыхивает в голове. В тот день снова шёл дождь. Долгий. Она лежала на тахте, закинув ноги в тёплых носках на трельяж, и слушала. Когда-то вечерний дождь означал, что мать не придёт ночевать. Не любила ездить с работы по дождю. Здесь, под землёй, дождь звучал необычайно сухо, будто состоял из песчинок. Не лился, не капал, не журчал, даже не барабанил, как это часто случается с дождями в песенках — монотонно шуршал. До этого Люся не замечала, как необычно звучит здесь дождь. Шуршащий подземный дождь в отличие от наземного, обычно слишком экспрессивного, оказался неплохим аккомпанементом. До этого Люся знала несколько таких аккомпанементов. Ночью — прохудившийся кран, неожиданно точно отстукивающий по раковине ритм, ветер в трубе котельной, сложно смешавший гул и свист. По утрам — ржавые качели, на которые садилась та девочка, что так любила перед школой посидеть на качелях, пока бабушка не начинала кричать с балкона: «Сейчас же в школу!». Люся долго собиралась подружиться с той девочкой… Старый лифт, бьющий кабинкой по стенкам шахты, до которой можно дотянуться, высунувшись из окна. Подъёмный кран, дирижирующий стройкой где-то над головой, скрип кровати за перегородкой, если к соседке перед работой заглянул сосед-гаишник, и конечно, конечно стук вагонных колёс.