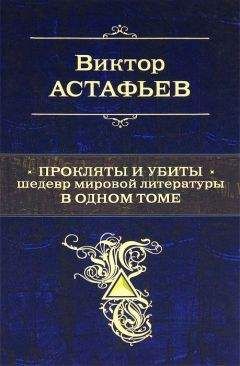Понайотов махнул рукой у виска, доложился отчего-то только майору о прибытии. Зарубин на него покосился, ничего ему не ответил, слабо махнул рукой, мол, всех он видит, но остаться тут, на летучке, может лишь Понайотов.
– Товарищ майор, – присаживаясь рядом, вполголоса уронил Понайотов, – мы переправили немного хлеба и медикаментов.
– Шлите людей за продуктами немедленно! – распорядился Зарубин, одновременно слушая командира полка Бескапустина, который сорвался, – накопилось в тихом, смиренном, даже раболепном командире столько, что он уже не в силах был себя сдерживать, назвал переправу не военной операцией – свалкой, преступлением, грозился куда-то писать, если останется жив, о безобразной подготовке к форсированию реки, об удручающих потерях, которые, конечно же, в сводках преуменьшены, если вовсе не замазаны.
– Вижу вот – для вас это новость? – тыкал он пустой трубкой в сторону растерянно топтавшегося, почти в речку им оттесненного начальника штаба, приплывшего на оперативное совещание в хромовых сапогах, в небрежно и как бы даже форсисто, вроде мушкетерского плаща, наброшенной на плечи плащ-палатке. – У вас там хитрые расчеты, маневры один другого сложнее, грандиозные операции, а тут пропадай! Пропадай, да? – полковник загнал-таки форсистого офицера в речку, опавшим брюхом затолкал его в воду и все еще выпуклой, ломовой грудью напирал на начальника. Собравшиеся на летучку растерянно помалкивали. Сыроватко уже мокрым платком тер и тер совсем мокрую лысину. Из темноты выступил капитан Щусь, взял и, как дитя, за руку отвел в сторону своего разнервничавшегося командира. Комполка не унимался. Сорвав уздечку с губ, будто колхозная заезженная кляча, Бескапустин рвал упряжь, громил телегу. – Настолько грандиозные планы, что и про людей забыли! Боеприпасов нет! Продуктов нет! Зато крови много! Ею с первых дней войны супротивника заливаем…
– Авдей Кондратьевич! Авдей Кондратьевич!…
– Да отвяжись ты! Я скажу! Я все скажу! – уже переходя на крик, от которого всем было не по себе, гремел командир полка. – Вот вы на лодке приплыли, на порожней…
– Нет, три ящика гранат, патроны…
– Гранаты! Патроны! А бинты? А хлеб? А табак? Забыли, что здесь есть еще живые люди… Х-художники! – Щусь догадался сунуть в горсть полковника табаку, комполка, изнемогший без курева, начал сразу же черпать табак трубкою с дрожащей ладони. Авиационный представитель зажег ему трубку самодельной фасонистой зажигалкой, полковник, закашлявшись от жадной затяжки, все пытался выговорить: – Я этого… я этого… я этого так не оставлю! – курнув во всю грудь, мрачно и церемонно поклонился в сторону «своих» офицеров. – Извините, товарищи! – но начальника штаба презрел.
Начальник штаба, опустив хмурое лицо, поставил задачу на завтра: во что бы то ни стало удержать высоту Сто и во все последующие дни всячески проявлять активность, отвлекая на себя внимание и силы противника.
– Обстановка скоро изменится. Резко изменится. Я понимаю – тяжело, все понимаю, но надо потерпеть.
Щусь, оттеснив своего командира полка, опять же откуда-то из потемок заявил, что, если сегодня за ночь не переправят боеприпасов, не пополнят его батальон людьми – высоту не удержать – нечем.
– Мы и без того воюем наполовину трофейным оружием. Что же нам, как ополчению под Москвой – тем бедолагамакадемикам и артистам, брать палки, лопаты и снова идти на врага – добывать оружие?…
«Сейчас приезжий чин начнет спрашивать фамилию у этого дерзкого офицера», – но в это время с берега подошли люди с носилками, и, воспользовавшись замешательством, начальник штаба поскорее попрощался со всеми не за руку – за руку поостерегся, командир полка Бескапустин не подаст ему руку.
– Хоть плащ-палатку-то оставьте – у нас раненых нечем накрывать, – пробурчали из темноты, – и табак.
Путаясь в шнурке, затягивая удушливую петлю на шее, начальник штаба заторопился выполнить просьбу, догадался, наконец, сдернул плащ-палатку через голову, свернул ее на берегу, сверху положил початую пачку папирос и, ощупывая себя, шаря по карманам, расстроенно твердил:
– Я доложу… Я обо всем, товарищи, доложу…
Дождавшись, когда все разойдутся, Понайотов, не сдержавшись, приобнял майора Зарубина, бережно прижал к себе и, услышав, что лицо раненого колется, изумился до беспредельности: «Ну, значит, тут действительно…»
Два рюкзака до завязок были набиты хлебом, еще подсумок махры и полная противогазная сумка сахарного песку. Всем, кто находился в блиндаже, досталось по куску хлеба, посыпанного сахарным песком.
– И мне пожалуйста… – всеми забытый при дележке, напомнил о себе майор Зарубин. Ему поспешно отхватили ломоть. Он отделил себе пряничек от ломтя, посыпал песочком, тщательно изжевал, слизнул сахаринки с ладони и сказал не то себе, не то Понайотову: – Ничего, ничего, – и слабо улыбнулся. – Утону – хлеб напрасно пропадет, – и, чувствуя, что шутки не получилось, смущенно добавил: – Я же скоро покушаю.
Рюкзак с хлебом, котелок сахару и сумочку соли тут же отправили в батальон Щуся. Поделились харчем и с ротой Боровикова, так теперь называли бойцов, собранных по берегу и сформировавшихся в подразделение, оборонявшее правый фланг плацдарма. Три булки хлеба и весь остаток сахара назначено было отделить раненым в полк Сыроватко. Бескапустинцам нечего уже отделять, однако Понайотов сообщил, что две лодки, привезенные аж с Десны, всю ночь будут ходить от берега к берегу и кое-что доставят сюда.
Бунтарь Бескапустин ушел к себе, ни с кем не попрощавшись, лишь глянул уничижительно на хитроумного Сыроватко, ни в чем его не поддержавшего. Майор Зарубин позвонил полковнику. Бескапустин пожелал ему счастливо добраться до спокойного берега.
– Так и не удалось мне вытащить сюда вояку Вяткина, сказал с сожалением Зарубин.
– Да на кой здесь нужен этот художник? Вонять только. Дак тут без него вонько. А ты поправляйся скорее, Александр Васильич, поправляйся, дорогой. Бог даст, еще повоюем вместе. Берлин далече. – Подумал, помялся: – Слушай, дорогой, хоть ты и ранен, хоть изнемог, будь добр, поручи кому-нибудь из своих надежных товарищей найти мои тылы, и пусть набьют они там морды, от моего имени, командиру хозроты. Художники! С глаз долой, из сердца вон! Даже не напоминают о себе, попыток не делают, чтобы хоть что-нибудь переправить сюда. У меня раненые мрут… – голос полковника упал в бессилии, – я уж сам пустую трубку всю изжевал… табачку нету. Спасибо, кто-то из хитрожопых художников на совещании отсыпал.
– Хорошо, Авдей Кондратьевич. Я постараюсь. К Сыроватко, кажется, переправили медикаменты…
– У хохла да у жида одалживаться – худая примета, – холодно откликнулся Бескапустин. Он откровенно недолюбливал лукавого соседа, в глаза и за глаза презрительно обзывал его художником. – А я – таежник, суеверный человек… Прощай, майор!
– Нет, лучше до свидания, товарищ полковник! – почему-то грустно сказал майор и осторожно подал трубку Шестакову. Сейчас же! – приказал он. – Сейчас же отправить немножко табаку и хлеба Бескапустину. Но не с ним, – ткнул он пальцем в развалившегося на полу Шорохова. – Уворует! – майор повременил и обратился к Понайотову: – Все привязки огней, цели, ориентиры и рисунок передовой линии покажет тебе Карнилаев на моей карте. Карта и планшет на столе в блиндаже. Обстановка здесь сложная, но взяли высоту, и с вечера несколько облегчилась. Надолго ли – не знаю. Думаю, наутре немцы обязательно будут отбивать высоту. – Он опять сделал паузу, отдышался. – Шестаков, Алексей, проводи меня. Нет сил.
– А мы вас на носилочки, на носилочки, – засуетился вокруг него ординарец Утехин, и майор, морщась, подумал: как, отчего, почему этот удалец остался на том берегу? Почему он не с ним?
– Да, пожалуй, согласился Зарубин, до берега мне уже не дойти…
К лодке несли майора вчетвером: санинструктор, ординарец, Лешка и кто-то из подвернувшихся солдат.
– Несите, несите! – отступив в сторону, крикнула из темноты Нелька, уединившаяся с капитаном Щусем. Она погладила лицо комбата, привалилась к его плечу: – Одни мослы остались…
– Зато паразиты мослы не изгрызут. Ты вот что, забери этого дурака Яшкина. Загибается он. Пока еда, сладкое, фрукты были – ничего, а после переправы пожелтел, согнулся в три погибели.
– Следующим заплывом, если не потонем. Ты подождешь?
– Не могу. Надо к утру готовиться. – Вспомнилось, как пели перед отправкой на фронт солдаты в бердском полку: «С рассветом глас раздастся мой, на славу иль на смерть зовущий». Она потрепала его по волосам, пошарила где-то за ухом. – Шибко-то не ластись – вшей на мне…
– Стряхнем, разгоним…
– Я угоню Яшкина на берег. Дам связиста и угоню.
– Алеш! Алексей Донатович! Ты какой-то?… Будто не в себе.
– Да все мы тут не в себе.
– Алеш! Алексей Донатович! Живи, пожалуйста, живи, а! Слышишь!…