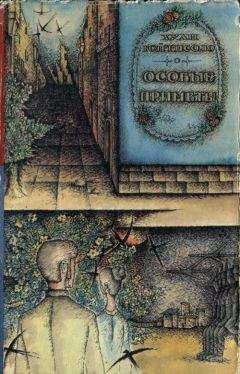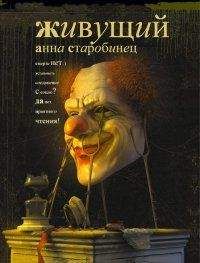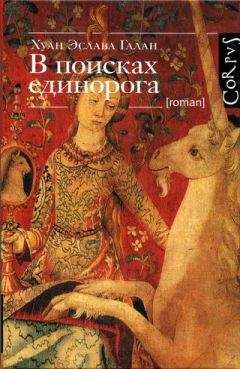У ворот, в ожидании часа закрытия, сидел старик, кладбищенский сторож. Он грустно улыбнулся им, когда они вышли.
— В первые годы, — проговорил он, — много людей сюда ездило: вдовы, родители, друзья, а кто и просто так, по любопытству… Следили за могилками, везде чистота, порядок… А потом забросили… Нынче мертвых не вспоминают, потеряли уважение… В воскресные дни приезжают сюда воздухом дышать, на траве валяются, закусывают… На днях одна парочка явилась, транзистор включили и пошли танцевать — да еще выходить не захотели… А кто так и с девчонкой со своей тут балуется или напакостит… Всякого понасмотрелся. Поверите, с души воротит… В наше время мы такого не видели…
Самолет шел на высоте четырех тысяч метров. Внизу, невидимая в темноте, простиралась кастильская Месета. И всю дорогу в ушах у Артигаса и Рикардо звучали слова кладбищенского сторожа. В полудреме голос старика вдруг выплывал откуда-то, заставляя вздрагивать и уже совершенно сознательно спрашивать себя, когда же, господи, когда же, через сколько дней, недель, месяцев, лет рухнет этот проклятый режим и сгинут те, на ком он держится, чтобы самая память о них исчезла, поросла быльем и чертополохом, как это заброшенное и загаженное кладбище с его никому не нужными могилами и забытыми мертвецами.
Они сидели на террасе, окутанной ночной прохладой; час убегал за часом, а они все говорили, и казалось, их разговору не будет конца. Они восстанавливали в памяти историю своей жизни за эти годы, начиная с ныне уже далекого дня, когда Альваро покинул Испанию; они пытались воссоздать все, что пережили за время разлуки: Альваро — по ту сторону Пиренеев, его друзья — по эту (в разговорах, кроме Альваро, обычно принимали участие Артигас и Рикардо, иногда присоединялся еще кто-нибудь из прежних товарищей). Но как они ни силились удержать и вернуть ушедшее, им это не удавалось: время ускользало, оно как бы таяло в воздухе, не оставляя им ничего, кроме сумятицы бессвязных образов, отрывочных сцен, поблекших и выцветших воспоминаний — горького осадка эпохи, в которую им довелось жить, и безвременья, против которого они безуспешно сражались, от которого хотели бежать и которое в конце концов их поглотило.
…Так всплыл и тот вечер — его помогла припомнить Долорес. Они вышли вдвоем из кафе мадам Берже и долго бродили по кварталам, прилегающим к улице Муфтар, заходя в арабские кофейни выпить перно. В Патриаршем проезде, в крошечном баре, украшенном аквариумом с золотыми рыбками и бронзовой статуей святой Женевьевы, патронессы Парижа, они разговорились с двумя старыми бородатыми оборванцами. Те горячо возмущались бессовестностью своих конкурентов, мусорщиков. Альваро и Долорес пригласили их выпить за компанию.
— Мы еще играли в настольный футбол, — напомнила Долорес. — Ты все выигрывал, а я злилась. Помнишь?
От перно бородачи пришли в хорошее настроение, развеселились, стали шутить и в приливе общительности и любви к ближнему спросили Долорес:
— Mademoiselle est Italienne?
— Non, Espagnole[112].
Тот, что был постарше, разгладил бороду и горделиво приосанился.
— А, Испания… Теруэль, Бельчите… Знаю, знаю.
Его голубые глаза округлились и покраснели. Долорес одним глотком опорожнила рюмку и уставилась на него:
— Когда же вы были в Испании?
— Как вам сказать. — Старик неопределенно повел рукой. — Во время войны… Бах, бах, бах…
— Вы там жили?
— Я? — Старик отрицательно покачал головой. — Я туда поехал воевать. Ах, и дьявольская же страна!
— Добровольцем? — спросил Альваро.
— Да, мосье.
— На чьей же стороне?
Вопрос, по-видимому, озадачил старика. Он подозрительно взглянул на Альваро, потом в глазах у него появилось напряженное выражение, он силился вспомнить.
— Du bon côté, — промямлил он наконец.
— Qu’est-ce que vous appelez le. bon côté?
— Vive la République! — Бородач поднял к виску сжатый кулак. — Je suis républicain, moi.
— Ah, bon.
— Mon général etait Queipo de Llano.
— Quoi?
— Queipo de Llano. — Старик вытянулся по стойке «смирно». — Ah, c’etait le bon temps…
— Alors vous étiez avec les fascistes, — сказал Альваро.
— Avec les fascistes? — Бородач снова недоверчиво посмотрел на него. — Je suis patriote, moi… J’étais à Paname et je suis parti…[113]
— Queipo de Llano était du côté de Franco.
— De Franco? — На лице старика была написана неподдельная оторопь. — Ah, non.
— Mais si, — подтвердил Альваро. — Вы что-то путаете. Либо вы были республиканцем и сражались против Кейпо, либо вашим командиром был Кейпо, но тогда вы не были республиканцем.
— Ça jamais de vie. J’ai lutté pour la République moi. Je suis blessé ici. — Он поднял руку к поясу, намереваясь расстегнуть брюки. — Mademoiselle voudra bien m’excuser.
— Alors? — спросил Альваро.
— Putain de bordel de merde. Je ne me souviens plus[114].
Старик недоверчиво смотрел то на Альваро, то на Долорес. Под конец он озадаченно уставился на своего приятеля.
— Ça alors. Quel sac de noeuds.
— Tu déconnes, — буркнул второй оборванец.
— J’ai oublié, — пробормотал старик. — J’ai été blessé, trois fois, j’ai oublié[115].
— Послушайте, — сказал Альваро. — Ну, сделайте усилие.
Оборванец одним махом опорожнил рюмку и хлопнул себя ладонью по лбу.
— Ничего не помню, — извиняющимся тоном произнес он.
— А гимн? Какой вы пели гимн? Гимн Риего? Или «Солнцу навстречу»?
Долорес пропела начальные строфы обоих гимнов. Старик пропитым голосом подтягивал ей, размахивая руками, словно дирижировал невидимым хором.
— А, да, вот этот, он, он…
— Первый или второй?
— Я вот что пел:
Мой дорогой,
сыграй на трубе
марш боевой,
марш боевой…
— Tu déconnes, — твердил его товарищ.
— Toi, boucle-la.
— Tu te trompes de guerre, — не унимался младший. — Ça c’était contre les ratons.
— Je ne me souviens pas… Ça fait si longtemps[116].
Старик недоуменно чесал затылок и озирался с видом человека, который все еще никак не поймет, что же все-таки произошло.
— Молодец старик! Одним ударом покончил со всеми нашими испанскими распрями. Вот бы все так… На старом крест — и с новой страницы.
— Моему отцу было бы полезно услышать этот разговор, — произнесла Долорес. Щеки ее пылали. — Ему, да и всем нашим эмигрантам в Мексике со всеми их бесценными воспоминаниями.
— И моим дядюшкам и тетушкам. Может, они бы тогда перестали, как попугаи, повторять газетное вранье… Вечная гражданская война… Нам-то до нее какое дело?
Вместе с обоими бородачами они шли по улице Муфтар, что-то пели и хохотали, как школьники («Значит, вы так ничего и не помните…» — «Нет, ничего…» — «Вот видишь, ему удалось примирить оба лагеря, давай и мы тоже…» — «Ведь это было так давно»).
— А ночью мы с тобой во второй раз были вместе, — сказал Альваро. — На Контрэскарп мы взяли такси и поехали ко мне на улицу Вьей-дю-Тампль.
— Ты был пьян и не прикоснулся ко мне, — заметила Долорес.
— Я робел.
— Все началось наутро. Помнишь?
— Нет, — возразил Альваро. — Утром я тоже был пьян.
Сквозь яркую зелень деревьев видны были облака, они уплывали к морю, помпезные, патетические, как первые звуки оперной увертюры. За ночь жара немного спала, и легкий ветерок шевелил сосновую хвою и побеги акаций. С пруда доносилось ленивое кваканье лягушек. Возле шезлонга валялась брошенная детьми карта полушарий — няня забыла ее подобрать. Долорес подняла ее и стала разглядывать.
Английская карта, изданная между двумя мировыми войнами. Протектораты и владения британской короны закрашены одним цветом и отчетливо выделяются на фоне других стран: немецкий нацизм не успел еще развязать войну, и политическое равновесие, установленное Локарнскими соглашениями и созданием Лиги наций, казалось прочной основой спокойствия и мира, незыблемой защитой от революционных потрясений и любых угроз существующему порядку вещей, — смехотворные гарантии, такие же допотопные на нынешний взгляд, как Священный союз, учрежденный европейскими монархами в стародавние, легендарные времена Австро-Венгерской империи.
Десять лет назад, незадолго до того, как началась ваша любовь, вы оставили свои семьи, вам хотелось повидать мир, пожить иной жизнью, чем та, что была знакома вам прежде, в том замкнутом кругу, где вы воспитывались и выросли (для тебя это была Барселона с ее высшим обществом, постепенно приходившим в себя после ужасов и тревог гражданской войны; для нее — разношерстный, измельчавший клан республиканских политических эмигрантов в Мексике). Перелистывать страницы географических атласов было для вас почти осуществлением мечты, единственным способом вырваться, бежать от окружающего, это был ваш волшебный ковер-самолет, на котором вы, словно чародеи, устремлялись в свободный полет над миром. Но думать о путешествиях всерьез в дни войны и даже в послевоенные годы не приходилось. Поездка в любую страну из тех, чьи города, реки и горы вы так жадно разглядывали на географических картах, была сопряжена с невероятными трудностями, с тысячью непреодолимых препятствий: заявления, отказы, бесконечные проволочки из-за получения виз, бесполезное стояние в длинных очередях, непреклонные чиновники с лицами инквизиторов (пропуски, справки, рекомендации, разрешения, печати, гербовые марки, — а им еще все было мало, все мало. Чего стоила одна лишь идиотская, бредовая сцена у консула Менотти!)