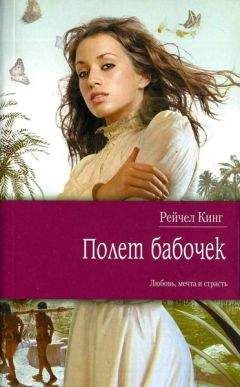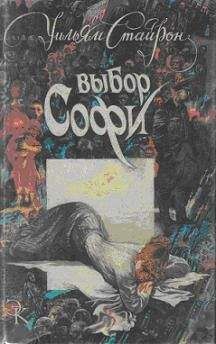Он снимает ботинки, потом брюки и остается в длинных подштанниках.
— Ложись скорее в постель, ты весь дрожишь.
Томас делает то, что ему велят, а она собирает его грязную одежду и обувь — целую охапку вещей — и покидает его комнату.
Немного погодя она отправляет наверх Мэри с ужином для Томаса — горячий суп, чтобы он согрелся. Пытается сидеть спокойно и читать, но кресло будто утыкано иголками, а слова на страницах книги словно играют в чехарду. Она то и дело оказывается в прихожей и смотрит наверх — на запертую дверь в комнате Томаса. В конце концов убеждает себя, что уже довольно поздно и пора ложиться спать.
У себя в холодной спальне она быстро раздевается и тянется за ночной рубашкой. Ловит свое отражение в зеркале. Тело у нее белое, как мука, — даже при желтоватом свете лампы. Она выпрямляется и становится боком к зеркалу. Живот уже не такой выпуклый, как прежде, и щеки утратили припухлость, твердые подвздошные кости торчат, обтянутые кожей. Пора бы иметь детей. При этой мысли ей бы ощутить себя моложе — раз ее время еще не прошло, — но вместо этого она чувствует себя бесплодной старой девой.
«В моем сердце, как и в моем чреве, легко уместилась бы пара близнецов», — думает она.
Она вспоминает разговор с Агатой этим утром — о том, как подруга уговаривала ее сделать хоть что-нибудь, все, что угодно, лишь бы не притворяться, что ничего не происходит, и не надеяться, что все пройдет само собой. Все эти прогулки с Томасом, хождения на цыпочках вокруг него — ничто из этого пока не помогло. Слишком много энергии она потратила на то, чтобы осуждать Агату, — но не потому ли, в конце концов, ей хочется дружить с Агатой, что они такие разные с ней? И возможно, Агата всегда нравилась Софи именно благодаря, а не вопреки своему поведению, и в глубине души ей жаль, что она сама не может жить без мелочных придирок и строгой критики в адрес тех, кто не соблюдает правил приличий. Тем не менее Томас изменился, может, даже безвозвратно. Вероятно, ей тоже следует измениться, и тогда — только тогда — у них что-то получится.
Она проводит рукой по груди, сохранившей округлые, полные формы, по холодным соскам. Думает о муже, лежащем в постели в одном нижнем белье. Вспоминает запах, представляет себе его обнаженную спину. Что бы Агата сделала прямо сейчас, будь она на ее месте?
В комнате Томаса темно и слегка пахнет говяжьим бульоном. Он дышит ровно, но громко. Она подкрадывается к краю его кровати, откидывает одеяло и проскальзывает к нему в постель. Он вздрагивает и просыпается, когда она трогает его за грудь, где аккуратно сложены обе руки.
— Тсс, — шепчет она. — Это всего лишь я.
Ей не видно его лица, на котором, скорее всего, написана тревога, но, лаская грудь мужа, она представляет себе, что отгоняет от него все страхи прочь.
— Все будет хорошо.
Она поглаживает ему грудь круговыми движениями, проводит пальцами вокруг сосков, касается рук, ладоней. Она ведет пальцы ниже груди, к животу — туда, где из-под штанов выбивается полоска пушистых волос. Он вздрагивает от ее прикосновения. Она прижимается к нему и целует в шею, затем в щеку и, наконец, в губы. Тело его остается неподвижным, но всего на секунду, после чего он открывает рот, и она запускает в него язык, тянется кончиком к его языку. Он отвечает на поцелуй, сначала ртом, а потом обнимает ее, когда она придвигается к нему. Обеими руками она стягивает с него штаны, придавливая его всем своим весом. Видя, что он возбуждается и плоть его наливается кровью, она припадает к нему сверху, прижимаясь сосками к его груди. Рукой она направляет его, чтобы он оказался в ней.
Стон вырывается из его груди. А может, за ним прозвучит и слово?
— Скажи мое имя, — шепчет она, но он молчит.
Она двигается вперед и назад, чувствуя под собой, как нарастает его возбуждение. Трогает себя так, чтобы усилить каждое движение вперед, а когда он сильнее сжимает руками ее бедра, Софи пронзает очередная волна желания, на этот раз теплая и приятная — она поднимается от нижней части живота до самой макушки и стекает по внутренним сторонам рук. Она кричит за них двоих и падает на мокрую от пота грудь своего немого мужа.
Она просыпается среди ночи — ей приснилось, что она лежит на краю глубокого колодца. Шарит рядом рукой — Томас исчез. После того как они занимались любовью, он повернулся к ней спиной, и ее радость упала, как стрелка барометра. Теперь его нет в постели, его вообще нет в комнате. Тело ее напоено, руки и ноги расслаблены, движения свободны. Но внутри у нее снова нарастает сомнение — она физически ощущает, как оно твердым круглым камнем перекатывается в кишках. Как долго это будет продолжаться? Эти метания между надеждой и жестоким отчаянием? Она хочет — нет, ей просто необходимо оставаться для него примером оптимизма, но у нее не хватит сил постоянно лелеять свои надежды, чтобы потом их швыряли ей в лицо, как сейчас.
Хватит, приказывает она себе. Мы добились хоть какого-то, но прогресса — это так. Три недели назад она не могла и мечтать о том, чтобы забраться к нему в постель, как сегодня. Его тело тогда было хрупким, как высушенная трава; теперь он поправился, и раны зажили. Она до сих пор помнит тепло его огрубевших рук на своей спине, как он шершавыми кончиками растрескавшихся пальцев водил по ее позвонкам. Ему уже лучше. Ему уже гораздо лучше. Он даже звуки издавал, не так ли? Это лишь вопрос времени — и его стоны обратятся в слова.
Она садится в постели и прислушивается — в полной темноте царит полная тишина. Томас оставил одеяло со своей стороны откинутым, и простыня отдает холодом и сыростью. Она выбирается из постели и оборачивается простыней.
Ноги ее мягко ступают по лестнице, совершенно бесшумно. Весь дом погружен во тьму, и только слабая полоска света пробивается в коридор из-под двери кабинета Томаса.
Она, толкая, открывает дверь и видит мужа — он снова сидит, согнувшись над столом, и работает. Часы в углу показывают время — два ночи.
— Томас? Дорогой? Уже поздно.
Она потирает глаза. Он не оборачивается.
Она подходит к мужу и кладет руки ему на плечи, но он никак не реагирует. Перед ним на столе стоит один из его ящиков Брэйди, наполовину заполненный бабочками — внешне все одного и того же вида, лишь незначительно отличающиеся размерами и расцветкой. Под каждой особью аккуратно прикреплена этикетка с небрежным почерком Томаса, и рука у него дрожит, пока он скальпелем поправляет новую этикетку под бабочкой, которую только что посадил на булавку. При тусклом свете ей не удается разобрать латинское название бабочки. Впрочем, они все выглядят одинаково. С какой стати ему надо возиться с таким количеством одинаковых бабочек? Наверняка он продаст их, не будет же хранить все это у себя? Она стоит позади него, посылая ему через руки тепло и любовь, но он продолжает сидеть к ней спиной, ничем не показывая, что знает о ее присутствии, полностью сосредоточенный на ящике с насекомыми. Он даже покинул постель, которую она делила с ним, после того как она отдала ему всю себя, — и все ради того, чтобы быть с этими противными созданиями.
Она отталкивается от него ладонями так, что он промахивается и роняет этикетку. Но он по-прежнему не замечает ее — просто подбирает листок и заново устанавливает на место. Софи отступает от него и ждет, давая ему последнюю возможность сделать хоть что-то — например, сказать что-нибудь, — после чего идет наверх, держась за живот, и возвращается в собственную постель.
Она проваливается в полусон, не переставая слышать звуки в ночи, стук веток сливы в окно, осознавая в итоге, что светает, — но все это сопровождается мыслями и образами, которые превращаются в абсурд. Она видит перед собой спину Томаса, но оказывается, что это отец сидит за письменным столом; чувствует, как нянюшка берет ее за руку костлявыми пальцами; затем все куда-то пропадает, и она просыпается. Бабочки хлопают крыльями у нее над ухом и исчезают. Она ощущает прикосновение Томаса к своей спине, но она — это уже не она, а другая женщина, и он занимается с ней любовью так, как должен был бы заниматься только со своей женой. Она взвешивает. Те незначительные намеки, которые Томас подавал ей, и все, что прочитала в его журналах, и сказанные агентом слова о письмах, которые он получал. Но поскольку полусон затуманивает мозг, она теряет ход размышлений, забывает, о чем думала, и начинает думать о чем-то другом. Одна только мысль приходит к ней снова и снова: «Он любит бабочек больше, чем меня».
Уже перед самым рассветом она слышит, как Томас поднимается по лестнице и идет к себе в спальню. К тому моменту, когда пепельно-серый утренний свет начинает пробиваться сквозь шторы, от этих видений в полудреме все внутренности у нее стягивает в тугие узелки. Ей никак не удается уснуть, ни на боку, ни на спине: лежать в постели неудобно, кожа чешется, и в любой позе все части тела мешают друг другу. С таким же успехом она могла бы лежать на сырой и твердой земле, где по ногам ползают муравьи. Может, тогда Томас обратил бы на нее внимание.