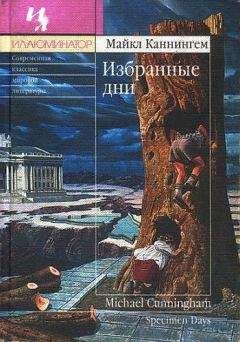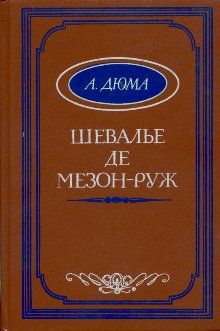— Я провожу тебя. Хочу попрощаться с остальными.
— Пошли.
Вместе они приблизились к кораблю. От него исходил приглушенный шум. Он испускал слабое сияние, напоминавшее то, как светилась в сумраке комнаты наверху миска Люковой матери. Колонисты собрались в подножье трапа. У его верхнего конца из квадратного входа изливался безупречно белый свет.
Эмори с чувством сказал Саймону:
— Ну что ж, нам пора.
— Я пришел попрощаться, — ответил Саймон.
— Ты не летишь?
Саймон начал объяснять почему. Эмори внимательно слушал и сказал, когда Саймон умолк.
— Знаешь, это совершенно исключительный случай.
— Что вы имеете в виду?
— Тебя.
— Я не исключительный. И не надо, пожалуйста, такого покровительственного тона.
— Ребенок сказал… — начал было Эмори.
— Сейчас лучше, по-моему, обойтись без стихов, — прервал его Саймон.
— Правда?
— Правда.
Эмори улыбнулся и кивнул:
— Ну, как скажешь.
От толпы отделилась Твайла, за ней — Люк. Девочка сказала Саймону:
— Раз уж остаешься, ты мог бы присмотреть за Гесперией.
— Почему бы нет.
— Завтра за ней придут соседи. Скажи, что ты им ее не отдашь. Скажи, что оставишь себе. Скажешь им это?
— Конечно.
— Он не сможет ухаживать за лошадью, — сказал Люк. — Лучше доверить ее соседям. Они же разводят лошадей.
— У них Гесперия станет просто еще одной лошадью в табуне. А у Саймона будет единственной.
— Надо еще, чтобы Саймон сам захотел держать лошадь. И хоть немножко представлял, что с ней будет делать.
— Пора на борт, — сказала Отея. На руках она держала младенца.
Эмори сказал Саймону:
— Я смотрю, ты у меня вышел лучше, чем я думал.
— Счастливого пути.
— И тебе тоже. Извини, мне нужно проверить, все ли на месте. Не исчезай пока. Я хочу как следует с тобой попрощаться.
Эмори смешался с толпой. Люк с Твайлой все препирались насчет лошади. Препирательство, судя по всему, заводило их в область иных, более общих разногласий.
Саймон подумал, что сейчас самое время удалиться. Как он ушел, не заметил никто.
Он снова занял свое место у кровати Катарины в темной, прохладной комнате. Снаружи доносился предстартовый шум: металлическое позвякивание, три звонких последовательных удара, затем странный чмокающий звук непонятого происхождения, вскоре прекратившийся. Еще то и дело раздавались голоса, детский выкрик, ответ взрослого. Слов было не разобрать. Они слышались как бы издалека, казалось, что до них дальше, чем на самом деле.
Он не хотел смотреть, как взлетит корабль. Предпочитал оставаться в этой тихой комнате.
Время шло, он несколько раз задремывал. Голова свешивалась на грудь, он вздрагивал и просыпался. Каждый раз, пробудившись, Саймон удивлялся, что он здесь, с этой темной немой тенью на кровати. Каждый раз, мгновение спустя, понимал, в чем дело, и снова погружался в сон.
В конце концов он улегся на кровать рядом с Катариной. Он страшно устал. Единственным его желанием было прилечь. Двигаясь осторожно, чтобы не потревожить ее, он растянулся на узком матрасе.
Она вдруг распахнула глаза. Повернула к нему голову. Помолчала немного, а потом сказала:
— Ты.
Голос у нее совсем ослаб, превратился в чуть слышный свист.
— Я, — ответил он.
— Когда летишь?
— Не думай об этом.
— Когда летишь?
— Я не лечу.
— Летишь.
— Я остаюсь.
— Нет.
— Я не хочу лететь без тебя.
Это было не совсем то, что он хотел сказать. Не вполне правдой. Но он тем не менее произнес эти слова.
— Ты летишь, — сказала она.
— Шшш. Не разговаривай.
Раньше невозможно было бы представить, чтобы он попросил ее поменьше говорить.
Она настаивала:
— Летишь.
— Я хочу быть здесь, — сказал он.
Она посмотрела на него. Взгляд у нее затуманился. Она открыла рот, но не смогла выговорить ни слова.
— Спи, — сказал он. — Засыпай. Я никуда не денусь.
Она закрыла глаза. Он осторожно обнял ее. Потом подумал, что ей это может не понравиться, и убрал руку. Он придвинулся к ней лицом, его щека касалась ее лба. Подумал, что против этого она возражать не стала бы.
Вскоре он тоже уснул.
Ему снилось, что он стоит на высоком открытом месте. Было светло и ветрено. Во сне он не понимал, где очутился — на горе или на крыше здания. Знал только, что под ногами у него прочное основание, а земля — далеко внизу. Сверху ему были видны идущие по равнине люди. Несмотря на большое расстояние, видел он их отчетливо. Это были мужчины, женщины, дети. Все они шли в одном направлении, — что-то оставляя позади. Ему трудно было различить то, от чего они спешили уйти. Где-то там, далеко, будто перед грозой, собиралась тьма, пробиваемая вспышками, зеленоватыми, болезненными — лихорадочными искрами и сполохами, возникающими и исчезающими среди клубящегося мрака. Люди уходили от этой тьмы, но того, к чему они шли, он увидеть не мог. Слепящий ветер бил ему в лицо, и от него некуда было деться. Он видел только то, от чего эти люди спасались. Надеялся, что впереди их вдет нечто лучшее. Он представил себе горы и леса, реки, просторы, на которых гуляет ветер, но разглядеть ничего этого не мог. Он видел только людей, идущих по высокой траве. Видел написанные на их лицах надежду, страх и решимость, неистовое горение, для которого он не находил слов. Ветер ревел все громче. Он осознал, что это ревет не ветер, а двигатели корабля, отправляющегося к новому свету.
Он проснулся. Было по-прежнему темно. По-прежнему слышался шум ветра из его сна.
Он сразу понял, что Катарина умерла.
Она лежала неподвижно, с закрытыми глазами. Оранжевый свет больше не виднелся сквозь веки. Саймон дотронулся до ее маленькой гладкой головы. Она была холодна, как камень.
Не поторопила ли она смерть, чтобы он еще успел на корабль? — подумал он. Способны ли надиане на такое? Трудно было сказать.
Корабль. Он мог еще успеть улететь.
Саймон выбежал из комнаты, скатился по лестнице, выскочил на улицу. Он все знал. Конечно же знал. Но все равно закричал: «Подождите!»
Корабль завис в сотне футов над землей и мелко дрожал в ожидании следующего выброса реактивной струи. Он гудел и покачивался в воздухе. Три паучьи ноги были уже втянуты внутрь, и теперь он представлял собой идеальный серебристый овал, дрожащий так сильно, словно вот-вот перевернется, и опоясанный желто-зелеными огнями иллюминаторов. Точно посередине днища располагалось круглое отверстие двигателя, светившееся огненно-красным по краям и ослепительно-белым в центре. Десять, девять, восемь…
Саймон с криками: «Подождите, пожалуйста, подождите меня!» — побежал к пустому месту, на котором раньше стоял корабль. Он продолжал кричать и остановившись посередине выжженного при старте круга. Он понимал, что уже слишком поздно. Даже увидев его (а видеть его они не могли), члены экипажа не смогли бы посадить корабль, скинуть ему веревку или лестницу.
— Нет! — кричал он. — Пожалуйста, прошу вас, подождите меня!
Из сопла вырвалась алая светящаяся струя. Саймона поглотило это алое пламя, смело его с лица земли. Через мгновение он состоял из одного только ослепительного света и, ничего не видя вокруг, все кричал. Он не чувствовал жара — только ослепительный свет. Двигатель кашлянул, и корабль взмыл вверх так стремительно, что казалось, просто растворился в воздухе. К тому времени, как красное пламя рассеялось и к Саймону вернулось зрение, уже невозможно было различить, корабль это в небе или яркая звезда.
Саймон смотрел на небо, следил взглядом за движущейся светлой точкой, которую считал кораблем, хотя и не мог быть полностью в этом уверен. По небу двигалось множество огоньков — это могли быть и летательные аппараты из Евразии, и секретные боевые средства, нацеленные на неприятеля, или инопланетные корабли, несущие межзвездных пилигримов. В небе было полно странников. А Саймон, стоя под звездами и движущимися точками света, все кричал: «Подождите, подождите, подождите, пожалуйста, подождите меня!»
Он перестал кричать и, за неимением лучшего, вернулся в опустевший дом. Он снова был в спальне. Лежал без сна рядом с телом Катарины, в котором уже ничего от нее не осталось. Она окончательно покинула этот мир. Телесная же ее оболочка сравнялась с неодушевленными предметами вокруг — была ничуть не значительнее, чем стул или лампа. Он лежал рядом с телом, пока в комнату не проник бледный утренний свет.
К тому времени, как взошло солнце, он уже выкопал ей могилу — позади дома, в тени дерева, на которое они смотрели вместе из окна спальни. Когда яма была готова, он пошел наверх, взял ее на руки и вынес на улицу. Она практически ничего не весила. Умерев, она стала похожа на сложенный зонтик. Он держал ее бережно, прижав голову к своей груди, хотя ей, собственно, было уже все равно. Он шел с ней через двор, когда заржала лошадь. Она хотела есть.