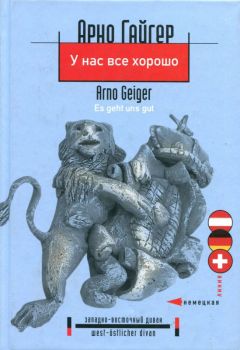Альма прокладывает себе путь между мебелью и хламом, мимо детской педальной машины Отто к выходящему на западную сторону окну и открывает его, чтобы впустить свежий воздух. Когда она пытается закрепить левую створку, из стены вываливается болт, на котором держится кольцо. Альма думает: да, правильно, такое уже было, у нас такое частенько случалось. Летом. Она поднимает болт, вкручивает его как может в расшатавшееся гнездо, потом цепляет крючок за кольцо, щелчком выбивает сухие останки мух и мышиный помет из щелей рамы, сильно потрескавшейся за долгие годы, и выглядывает наружу, всматривается поверх садов и домов в сгущающиеся над землей сумерки. Порыв ветра, гуляющего по венской долине, шевелит сухую листву на деревьях, наполовину вырисовывающуюся в блеклом свете, наполовину исчезающую в темноте. Над зоопарком Лайнца собираются густые облака, кучевые и слоистые, с шапкой сверху и кисточками на брюхе. Небо на этом участке полностью затянуто, под ним — плотная тень. Пестрая листва деревьев почти уже не видна из-под нее. Тучи наплывают, ленивые и тяжелые, словно привлеченные приглашающим взглядом Альмы. Скоро и верхушки и коньки крыш, которые еще виднеются вдалеке, сольются с мрачным фоном и растают в нем.
Альма ждет со скрещенными на груди руками и высматривает. Она не знает кого и что.
Тогда, чуть позже полуночи, когда Ингрид пришла и разбудила ее, потому что кто-то постучал в дверь и Ингрид испугалась, это был Отто, который не мог проникнуть внутрь. Ингрид заперла двери на все замки. Последняя ночь Отто в родном доме, перед тем как он вновь отправился на строительство баррикад и добровольно присоединился к одной из боевых групп. Два года назад он еще писал письма из палаточного лагеря гребцов на каноэ. На бумаге с музицирующими ангелами. Ангелов он срисовал откуда-то через кальку и раскрасил акварелью.
Комментарии излишни.
Ибо Ангелам Своим заповедает о тебе — охранять тебя на всех путях твоих. / На руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею. / На аспида и василиска наступишь; попирать будешь льва и дракона (Псалом 90,11–13).
Истинно и правдиво.
Да?
Еще раз?
Быть такого не может.
Нерешительно Альма отворачивается от окна. Она идет к двери, затворяет ее за собой, уносит с собой думы о детях, спускается вниз по лестнице, тихо, будто вслушиваясь во что-то, внимая другому голосу. Ее правая рука скользит по отполированному (протертому до дыр?) тысячами прикосновений детских ладошек, взрослых рук пушечному ядру, которому, по расчетам Отто, потребовалось бы двадцать семь с половиной часов, чтобы на боевой скорости облететь экватор (эту задачку ему пришлось решить для школы в качестве наказания). Она на мгновение замирает. Задумчиво. Удивленно. Складка между бровей. Она разглаживает на боках платье. Вдруг она чувствует, как пуст дом, совсем не так, как вначале: Отто и Ингрид, часто ее мать, и Рихард, который радовался, когда приходило много гостей. Из пяти человек, которые жили здесь, осталась она одна. Она кивает, медленно, несколько раз. Потом идет вниз по лестнице, в подвал, и достает из большого холодильного шкафа часть лучших припасов, которые она попридержала для гостей, а теперь медленно поедает их сама, потому что больше не хочет никаких визитов. Она складывает запасы в кухне, чтобы оттаяли. Оттуда заворачивает в гостиную и включает телевизор в надежде услышать добрые вести о соседях на Востоке. Однако монотонность новостных сообщений, абсолютно безучастных, на этот раз особенно глубоко потрясает ее. Не досмотрев программу новостей, она переключает на другой канал, где идет какая-то невинная чепуха с комиком Фрицем Экхардом. Но этот китч тоже выше ее сил, а документальный фильм о возникновении жизни оказывается ей не по зубам, хотя тема эта ей интересна. В нем рассказывается о цепочках аминокислот, которые скручиваются в спирали и в определенном порядке присоединяются друг за другом. И все же, как из этого возникает жизнь, остается ей неведомо. Она выключает телевизор, немного разочарованно. Берет книгу про аутсайдера, которая прошлой ночью упала с полки, посмотрим, может быть, удастся с ее помощью узнать что-нибудь о Рихарде. Но и здесь — одно разочарование. Уже на первой странице она спотыкается о множество незнакомых слов, не встречающихся в их англо-немецком разговорнике. Так, несолоно хлебавши, она ставит книгу обратно на полку. Идет назад к дивану, ложится, поворачивает лицо к большому окну, ноги слегка подогнуты, колено к колену, щиколотки плотно прижаты. В этом положении Альма прислушивается к хорошо знакомым звукам дома, мирно, спокойно, терпеливо лежит она так, одинокая, но не в неприятном смысле слова, то есть не то чтобы одинокая, а просто одна. Возможно, удрученная, да, немного подавленная, потому что способность к познанию нового ослабла и у нее. Часто, когда, несмотря на постоянно увеличивающиеся в своем количестве упражнения в искусстве отхода от дел и сбережения сил, она уже ранним вечером ни на что не годна и ощущает только потребность ни о чем не думать и тихо лежать, она говорит себе: «Это снова был не мой день, но он должен скоро наступить». Она и сейчас говорит это себе: «Это снова был не мой день, но он скоро наступит». Одновременно с этим она без горечи признает, насколько бессмысленно ее желание, потому что этот день не может наступить, она и не могла бы знать, как и когда. Так и лежит она, не ожидая ничего, пристально всматриваясь внутрь себя, не чувствуя себя ни счастливой, ни несчастной, не в состоянии заснуть, и ей кажется, что комната покачивается вокруг нее, где-то далеко от нее. Порывы ветра набрасываются на окна, неплотно прилегающее стекло тихо дребезжит, через четверть часа на дом обрушивается ливень. Альма прислушивается к звукам извне, ее сердце колотится, щеки горят, она слышит, как хлещет дождь и булькает вода, а затем приглушенные раскаты грома, которые накладываются поверх прочих звуков. Эти раскаты заставляют ее встать, выключить лампу под потолком и через высокое окно взглянуть в сад, на ульи и деревья, упирающиеся в небо своими кронами, черное на черном. Там, наверху, ни единого проблеска света. Альма думает: хоть бы не затопило веранду, как в прошлый сильный ливень, этого ей еще не хватало. Она вызывала трех специалистов, и никто не мог посоветовать ничего, кроме капитального ремонта дома. Но для кого? Для меня? Для меня не стоит, ту пару лет, что я еще проживу, дом продержится, а потом пусть другие о нем позаботятся. И третий эксперт поддержал ее в этом. Он посоветовал ей лучше ничего не трогать, пока совсем не станет худо, от снега, обледенения и жары едва ли найдется по-настоящему хороший материал (посмотрите, как трескаются дороги от мороза). С тех пор Альма опасается, что однажды наступит тот день, когда будет уже совсем худо. А в остальном, по ее мнению, дом еще должен послужить, большего от него и не требуется.
Гроза приблизилась. Льет как из ведра. С промежутками в три-четыре секунды вспыхивают зигзаги молний, большинство из которых раздваиваются вилкой. Молнии белого цвета и ослепляюще яркие, иногда отдающие в синеву, а иногда окрашивающиеся в оранжевый цвет. Множество молний не сопровождается никаким звуком, только время от времени издалека доносятся легкие, нарастающие и удаляющиеся раскаты. Альма хотела бы сосчитать секунды, но из-за того, что молнии сверкают часто, а гром доносится редко, она не может различить, к какой молнии относятся эти раскаты. Поэтому она просто считает про себя, испытывая приятную онемелость от механического нанизывания чисел, наблюдая за разрывами теней в саду, за секущими струями дождя, от которых она не может оторваться, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, чтобы не думать обо всех тех вещах, которые стали похожи на привычные старческие боли, возникающие там, где из-за слишком больших нагрузок все износилось, там, где из-за бесконечных повторов две мысли давят на чувствительные нервы.
О том, что она не смогла положить голову Отто себе на колени. Она может думать сколько угодно, но ничто не может перевесить мысль, что она не держала в объятиях своих детей, когда они умирали. Иногда она думает с тихо тлеющей под пеплом злостью: дети должны были лучше беречь себя. Но на самом деле это упрек в ее адрес, потому что беречь и защищать детей — одна из задач матери. Она так бы хотела исправить это, она бы хотела — ну хотя бы — положить себе на колени голову мертвого Отто и голову мертвой Ингрид. Как будто это бы спасло? Может быть. И своего мужа, Рихарда, она посадила бы в большое кресло, которое он любил в последнее время. Она принесла бы ему скамеечку для ног, обтянутую зеленой материей, и подставила бы ее ему под ноги, тогда все были бы в сборе (дождь хлещет с новой силой), словно всё в порядке (снова оранжевая молния), может, и не в порядке (что за дрянная погода), но все-таки лучше.
Однажды Альма зашла в ванную, Ингрид сидела на унитазе совершенно заспанная, ей тогда уже было семнадцать или восемнадцать. Альма погладила ее по голове и прижала к своему животу, как в старые времена.