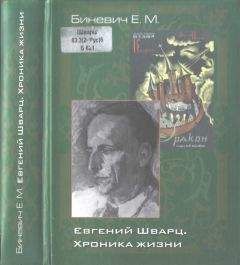— Ну ты оптимист, — удовлетворённо хохотнул Боб, — но сказано неплохо! — и хмыкнул. — Вот видишь! Сам же всё и подсчитал. И сам сделал вывод. Я же говорю — гений чёртов, все вы такие!
— Не знаю… не знаю… — всё ещё так же неуверенно пробормотал Штерингас, — мне нужны гарантии, что Ницца не потеряется. Иначе…
Что будет в ином случае, он так и не смог определить для себя вплоть до самого отъезда. Была ещё одна важная для него тема, которую он до поры до времени не готов был обсуждать даже с Бобом. И это впрямую касалось Ниццы. А началось с того, что с месяц тому назад он нашёл в доме рукопись. Толстая пачка машинописных листов, переплетённая в неброский картон, которую он обнаружил, вернувшись домой раньше обычного, лежала на прикроватной тумбочке, в спальне, с Ниццыной стороны. Он открыл, полистал. Но сперва прочитал название: «Белая книга». Составитель А. Гинзбург. Оказалось — сборник документов о процессе тысяча девятьсот шестьдесят шестого года над Андреем Синявским и Юлием Даниэлем, осуждёнными на лагерные сроки за издание на Западе литературных трудов под чужими фамилиями. Кроме книги, там же обнаружил тонкую папку с тесёмками, в которой так же оказались машинописные листки — материалы судебного процесса. В январе тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года в Московском городском суде проходил так называемый процесс четырёх. Судили Александра Гинзбурга, Юрия Галанскова, Александра Добровольского и Веру Дашкову. Вина этих людей заключалась в том, что они осмелились говорить правду о том, что происходит в стране. В книге Гинзбурга процесс писателей освещался правдиво и объективно, что, естественно, вызвало бешеную злобу властей.
Не меньшей была в их глазах вина и Юрия Галанскова, который выпускал самиздатский литературно-публицистический журнал «Феникс-66». Добровольскому инкриминировали написание статей в «Феникс-66», В. Дашковой — печатание материалов на машинке. Они отделались «легко» — по советским понятиям, конечно. Добровольский получил два года лишения свободы, Дашкова — год. Зато с двумя другими подсудимыми расправились по полной программе. Пять лет лагерей Гинзбургу, семь — Галанскову. Об этом процессе неустанно вещали «Голос Америки», «Свобода», «Немецкая волна», «Би-би-си» и другие. Слушать их Сева не слушал — времени не хватало, но не знать о том, что происходит, не мог. Да и в институте шушукались. В основном те, кто в своё время зарядились духом шестидесятничества и наивно полагали, что времена поменялись. Не в открытую, само собой, но за событиями они следили. Но теперь лишь на кухнях в основном факты перетирали, да ещё в институтских курилках. Севка для себя решил с самого начала, что глубоко вникать в происходящее не станет, не хватит его на всё: либо наука, без которой он уже не мог, либо совесть, принципиальность и участие. Но относительно последнего соображения допускал, что у него ещё есть в запасе личные резервы, чтобы практически безболезненно договориться с самим собой и незаметно отойти в сторону. Вернее, просто не входить в эту опасную зону совсем, иначе засосёт — не выберешься. Знал себя. Оттого ни разу за время жизни с Ниццей под одной крышей не пытался трогать больное. Чувствовал, не тот Ницца человек, чтобы не зацепиться. Не в её мятежном и безудержном характере мириться со всякой сволочью и любой жизненной несправедливостью. А если уж зацепит её что, то малой кровью точно не обойдётся, и если беда из-за всего этого приключится, то большая. Настоящая. Та, что придумана для взрослых. Вспомнил её рассказы о том, как не могла справиться с собой, видя, как несправедливо поступают с ней и с другими ещё в детском доме, как вызывала ненависть директрисы, как просиживала сутки в тёмном чулане, не подавая признаков жизни, чтобы этой своей непокорностью выразить протест против ненавистной воспитательницы.
Тогда он спросил у Ниццы про свою находку. Мол, понимает ли она, что это чрезвычайно опасное чтиво. Та особенно маскироваться не стала. Сказала, не хотела втравливать его в это своё занятие, потому что понимает, как ему не до того с Бобом и всеми их хромосомами.
— Занятие? — удивился Сева. — Ты хочешь сказать, что имеешь какое-то отношение к этим текстам?
Ницца немного смутилась, но ответила честно:
— Я просто немного печатала по Киркиной просьбе. Ты же знаешь, у нее мама писательница, Раиса Богомаз, Раиса Валерьевна. Ну, вот она… в общем… такой человек, ну… неравнодушный. И друзья её. Круг такой. Интеллектуалы, филологи, литераторы. Короче, они в курсе всех дел. Ну, ты понимаешь, каких… А тут недавно мы с Киркой у Шварца были, у Юлика, на Октябрьской. У него там подвал во дворе, типа городской мастерской, от старых ещё времён остался. Что-то вроде творческого склада. Он туда заезжал, взять чего-то или оставить, не помню. Мы случайно в метро пересеклись, с кольца на радиус переходили. Он тогда ещё портрет её карандашный сделал, быстро так. И подарил. Ей понравилось ужасно. Вот и все. Да, и мы чуть-чуть выпили с ней, Юлик угостил. А потом она дала почитать мне кой-чего, ну я и почитала. Знаешь, не хотела тебе говорить, но со мной ступор сделался. Шок. Никогда не думала, что в нашей стране подобные вещи происходят. Что достойных людей за говно последнее держат. Талантливых и порядочных. Настоящих. И захотелось помочь. Чем могу. Ну, она попросила перепечатать кое-что. А я подумала, заодно машинку пишущую освою. Ну и помогла немного. Вот, собственно говоря, и всё занятие.
После этого разговора Сева попросил её больше не держать дома никаких «таких» текстов. Сказал, у нас и так дома Хоффман прописался, считай. А всех иностранцев, как тебе известно, пасут. Особенно капиталистических. Ты что хочешь, чтобы к нам пришли и изъяли? С последствиями? Сама знаешь, с какими.
— Да? — удивилась Ницца. — А я знаю, они несколько раз пересекались с Киркой. Ну, встречались, вроде того. В кино сходили, знаю. Раз в кафе-мороженом посидели, на Тверской. По-моему, он её клеит. Не говорил тебе ничего?
— Не говорил. — Сева пожал плечами и подумал, что — странная вещь — и чего это Бобу такую малость несерьёзную от него утаивать? Ну, повстречался с Киркой, дело молодое, ну, мороженое съел. Не маму же её он клеит, писательницу эту Богомаз, которая и Кирку свою, и, получается, Ниццу его в глупости свои опасные втравливает. Ну не в глупости, хорошо, — в дела, в деятельность. Потом спросил у Боба, чего, мол, кроишь от меня, что Кирку клеишь. Тот неопределенно пожал плечами:
— Сев, ты себе девушку нашёл самую лучшую, поверь, я в этом кое-что понимаю. Есть опыт общения с противоположным полом. На таких, как Ницца, женятся. Сразу. Один раз и на всю жизнь. А Кира на неё в чём-то похожа, как мне кажется. Умненькая. Ну и… вообще. Классная молодая женщина. С английским, — он улыбнулся и прояснил вдогонку: — А с кем я в свободное от тебя время должен общаться? С русскими проститутками в гостинице «Националь», состоящими на службе в вашей полиции? Или как это… милиции…
А вскоре после этого разговора и раздался звонок Владимира Леонидовича. Можно было понять настроение Штерингаса, с которым он шёл в Дом на набережной, ломая голову о причине приглашения на аудиенцию к полковнику ГБ. Всё перебрал, пока шёл. Роберт Хоффман и его с ним неприкрытая дружба, явно превышающая по шкале общения градус взаимных профессиональных интересов. Ницца с её книжками от дочери диссидентки Богомаз. Переделанная умельцем коротковолновая «Спидола», которую она неотрывно слушает по ночам в бывшем кабинете его отца, извлекая через эфирные помехи голоса «оттуда». Сёстры Харпер в аэропорту, которых вынужденно пришлось представить двуличному Спиркину… Что ещё?
Первый раз поговорить с ней он решился в начале августа. О побеге на Запад. Вернее, просто в качестве разведки, попытаться выявить отношение к теме. Спросил так, между делом, по-легкой, когда заканчивали совместный завтрак на Чистых прудах и уже собирались разбегаться каждый по своим делам:
— Ниццуль, а может, валим отсюда? У тебя язык. Голова с мозгами, быстрыми и гибкими. Молодость. У меня профессия. В принципе вопрос решаемый, не просто, но можно. Ты как?
Та вопрос поняла и поэтому удивилась:
— Зачем? Мы же тут дома, а там — чёрт знает где! Здесь папа, девочки мои, дед, Ирод, Жижа. Вся наша колония.
— А там у тебя квартира в Лондоне. Я. Мы. А девочки твои приезжать станут, как они и сейчас туда-сюда челночат. И собаку купим. И тоже Иродом назовём. — Он старался придать разговору игривый настрой, по варианту безответственного мимолётного трёпа. Но в конце добавил: — Ты ведь не любишь коммуняк. Ты же их презираешь. Тогда ради чего всё это? Вся эта… жизнь с вечной игрой в поддавки.
Ницца допила чай, вытерла губы салфеткой и опустила чашку в раковину:
— Ну, хорошо, допустим, нас тут нет. И других — таких же, как мы, тоже. А кто останется? Страна для глухих и слепых ничтожеств? Наверху — пузатые обкомовцы, а все остальные, прикованные к бортам цепями, гребут, чтобы их галера не потонула? И всё? Мы не рабы — рабы не мы? А кто мы тогда, если не хотим быть рабами? Если мы хотим говорить свободно, думать, писать, что пожелаем, читать, что считаем нужным, быть громко, не таясь, услышанными собственными друзьями. Да и собственным народом, в конце концов!