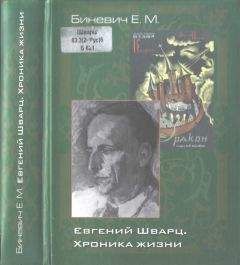— А там у тебя квартира в Лондоне. Я. Мы. А девочки твои приезжать станут, как они и сейчас туда-сюда челночат. И собаку купим. И тоже Иродом назовём. — Он старался придать разговору игривый настрой, по варианту безответственного мимолётного трёпа. Но в конце добавил: — Ты ведь не любишь коммуняк. Ты же их презираешь. Тогда ради чего всё это? Вся эта… жизнь с вечной игрой в поддавки.
Ницца допила чай, вытерла губы салфеткой и опустила чашку в раковину:
— Ну, хорошо, допустим, нас тут нет. И других — таких же, как мы, тоже. А кто останется? Страна для глухих и слепых ничтожеств? Наверху — пузатые обкомовцы, а все остальные, прикованные к бортам цепями, гребут, чтобы их галера не потонула? И всё? Мы не рабы — рабы не мы? А кто мы тогда, если не хотим быть рабами? Если мы хотим говорить свободно, думать, писать, что пожелаем, читать, что считаем нужным, быть громко, не таясь, услышанными собственными друзьями. Да и собственным народом, в конце концов!
Внезапно он спросил:
— А почему ты не в Жиже?
И заметил, как она снова чуть замялась, прежде чем ответить. И это ему не понравилось.
— Ну… просто мы договорились с девчонками встретиться. Посидеть и вообще. Давно не виделись.
— С Кирой?
— Ну да, — не стала врать Ницца. — С ней и ещё с другими. А завтра я в Жижу укачу. Приедете с Бобом в субботу?
После того как она ушла, Сева сел и задумался. То, что дело зашло так далеко, он, конечно же, не предполагал. Даже отдалённо о таком развитии событий не помышлял. Но теперь ему многое стало ясно. Со всей очевидностью. И это его не могло не насторожить. Днём он поделился новостью с Бобом. Тот взял небольшой таймаут, после чего подытожил ситуацию, коротко и жестко:
— Значит, так, Сев, слушай сюда. Рано или поздно Ниццу арестуют и привлекут. Это всего лишь вопрос времени. Если к этому моменту она не станет твоей женой, то возможны три варианта развития событий. Первый — ты проскочил, что маловероятно, но придётся отречься и забыть. Если, конечно, у тебя останутся прежние планы на собственную карьеру и жизнь. Второй — даже в этом случае ты пропал. Как близкий человек, живущий одним домом, а по сути гражданский муж. Предъявить — не предъявят, возможно. Или просто не докажут, если захотят не доказывать, но остальное закроют. Навсегда. И наплюют на твою гениальность и известность в научных кругах. И третий вариант — это если вы муж и жена. Это по-любому конец. Работать, наверное, разрешат, но мир для тебя закроют. Тоже навсегда. Так что надо выбирать — разумеется, четвёртый вариант. Валить как можно скорее. При идеальном раскладе — вместе с Ниццей, пока она ещё не успела совершить ничего противозаконного. Алгоритм следующий: ты — из Хельсинки, она — не будучи ещё с тобой в браке — потом, вдогонку при благоприятном стечении обстоятельств. Возможно, через Вену, как псевдоеврейский иммигрант. Способы такие есть, и они работают. У меня всё.
— Откуда ты это всё знаешь? — снова удивился Штерингас. — Ты как будто зачитал вслух отдельный параграф из руководства к бегству.
Хоффман улыбнулся:
— Ну, знаешь, моя семья тоже не всегда под её величеством ходила. Отец родом из Германии, еврей, из Крамма, городок такой есть недалеко от Берлина. Мать — гречанка. Папа вывез нас в тридцать третьем в Англию, по счастливому стечению обстоятельств, когда мама меня ещё носила. Всё уже тогда про Гитлера понял, заранее. В общем, уехали, почти вся семья. Только тётка осталась, тетя Эльза, балерина. Сказала моим, вы что, с ума сошли? К этим конопатым? Да ни в жизни! Тут у меня карьера какая-никакая, сцена. А там я кому нужна? Подумаешь, еврейка! И что с того? Не посмеет, духа не хватит! И осталась. Сейчас так в Крамме и живет, в соцлагере, у Хоннекера. Не знает, как к нам выбраться. Только поздно. А я родился уже в Лондоне. И Робертом стал, на их манер. И, чтобы ты был в курсе, куча родни по отцовской линии круги вокруг нас нарезают постоянно, только и делают, что ищут пути ухода из соцлагеря. Ты думаешь, один такой умный? Все, брат, умные, никто не хочет баланду вашу идеологическую хлебать. Кстати, и греческие родственники географию сменить не против. Люди хотят жить, работать и зарабатывать. А потом заработанное тратить. На себя. А не кормить ваших коммунистических начальников. — Он положил руку Севке на плечо и притянул его к себе. — В общем, так, Сев, ты летишь двадцать шестого, доклад твой двадцать седьмого утром. Я буду ждать тебя в течение трёх дней, каждое утро, начиная с двадцать седьмого, на Центральном железнодорожном вокзале, у входа, между колонн, там их две. Это недалеко от Конгресс-холла. Три минуты пешком. Дальше — моё дело, а твоё — незаметно ускользнуть из-под опеки чекиста, как его, этого… Антона Николаевича. Идеально — в первый день, непосредственно перед докладом. Скажешь, надо собраться с мыслями, подготовиться. Больше будет шансов ускользнуть. И паспорт, главное, не забудь, пригодится. В последний раз, надеюсь.
— Не знаю я, — упрямо отреагировал Штерингас, — не побегу я ни на какой вокзал. Не хочу я без Ниццы. Ни зарабатывать, ни тратить, ничего не хочу. И карьера мне без неё не понадобится, даже сногсшибательная. Радости от неё не будет, всё будет вхолостую наматываться, понимаешь? А мне сердечник нужен, стержень. Вокруг чего жизнь строить придётся. Ницца мне нужна, конкретно. Нужна и всё! Я однолюб, я другой такой больше не найду, тем более там, у вас. Так что ты погоди пока с колоннами с этими, дай подумать…
Боб улетел в Лондон за неделю до конгресса, чтобы успеть прибыть в Финляндию заблаговременно. Перед отъездом позвонил Кире, попрощался. Обещал регулярно звонить, докладывать о совместных успехах на конгрессе. У Севы билет был на двадцать шестое августа. А двадцать пятого они с Ниццей крепко повздорили, как никогда раньше. Неприятные между ними разговоры начались, правда, ещё до того дня, двадцать второго вечером, когда Ницца принеслась из Жижи, со своей «Спидолой» под мышкой, вся на взводе. Когда он вернулся из лаборатории, как всегда припозднившись, она всё ещё не успокоилась. Это было видно по тому, как ходили желваки и горели глаза.
— Ты представляешь, они танки ввели в Прагу! Эти сволочи!
— Какие сволочи? — не понял Сева, продолжая мысленно считывать доклад с гранок. — В какую Прагу?
— Да наши, наши! Армию целую ввели в Чехословакию, чехов оккупировали, людей там убивают! Вот, читай! — Она сунула ему в руки машинописный листок с текстом:
«Всем студентам мира! Я чешский студент, мне 22 года. В момент, когда я пишу это воззвание, советские танки стоят в большом парке почти под моими окнами. Дула орудий нацелены на правительственное здание с надписью: „За социализм и мир!“ В течение семи месяцев моей страной руководили люди, которые поставили целью доказать — впервые в истории, — что социализм и демократия могут существовать вместе. Место, куда увезли этих людей, сейчас неизвестно. В 3 часа утра 21 августа 1968 года я проснулся совсем в другом мире, чем тот, в котором несколькими часами раньше лёг спать. Единственное, чем вы можете нам помочь, — не забудьте о Чехословакии! Мы просим вас, помогите нашему пассивному сопротивлению, постепенно усиливая напор общественного мнения во всём мире.
„Студент“. 1-й недатированный спецвыпуск, 22 августа 1968 года».
— Ну и что ты собираешься делать? — пытаясь сохранить спокойствие, нарочито вялым голосом спросил Сева.
— Как — что? Как это — что? — Ницца заметалась по квартире. — Они же теперь их задушат, наши задушат чехов! А студента этого убьют! Разве ты не понимаешь, Севочка, милый? Как же ты так можешь оставаться спокойным? Они сначала своих поуничтожили, маму мою до смерти в лагере довели, а теперь за чехов взялись, и только потому, что те немножко форточку приоткрыли, глоток свежего воздуха в дом себе решили запустить. А им — по морде! По морде! Живите в говне своём; мы живём — и вы живите и не рыпайтесь!
Сева ничего не ответил. Молча ушёл на кухню и стал разогревать на сковороде гречневую кашу. Через десять минут, когда он уже ел, безо всякой охоты ковыряя вилкой в тарелке, туда зашла Ницца. Села рядом, обняла Севу. Глаза её были мокрые от слёз.
— Сев, я не хотела… Ты меня прости, пожалуйста, за моё это… за то, что накричала на тебя. Просто не могу смириться, когда людей унижают. Я завтра уеду, в Жижу, а двадцать пятого вернусь, тебя проводить, ладно?
— Ладно, котёнок, — ответил Сева, отодвинул тарелку, обнял Ниццу и прижал к себе. — Я тебя очень люблю… И очень за тебя боюсь. Ты с какого-то момента стала совсем неуправляемая… И мне кажется, на тебя плохо влияют твои новые друзья. Будь с ними поосторожней, ладно?
— Ладно, — равнодушно отмахнулась Ницца и снова прижалась к Севе. — Буду… — И он понял, что выводов сделано не будет никаких. — Пойдём спать, да?
И она взяла его за руку и повела в спальню. Потом она его раздела, сама, медленно… как они делали это друг с другом раньше, в самые первые дни, когда стали жить вместе… А потом дала раздеть себя… И снова они задохнулись в любви, забыв про всё остальное, про недавние разборки, про обиды, мелкие и покрупней, про русские танки в Праге, про вокзал в городе Хельсинки, откуда должен был начаться маршрут его бегства в другую жизнь и где каждое утро его будет ждать Боб Хоффман, про листовку чешского студента, которую её попросили размножить и незаметно распространить в институте, про последние инструкции лейтенанта из органов Антона Николаевича, которые он получил вчера в квартире Дома на набережной…