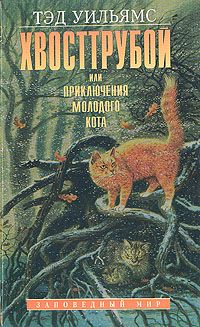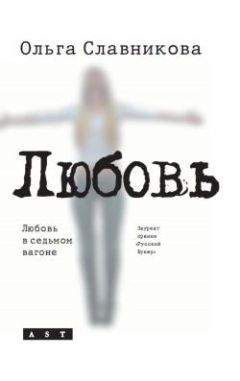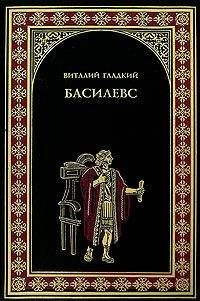— Ну, длинноносые! Длинноносые, я вам говорю! Молчат, как лорды, смотрят в разные стороны, ишь, напыжились… — Тщательно установив контакт между графином и рюмкой, господин К. надул себе водки с горбом и бросил ее в горло, не пролив ни капли. — Ну а что она про меня говорит? — спросил он, таща с тарелки Т. прозрачную ленту пармской ветчины.
— Говорит, что вы подлец и самодур, что посмеялись над ней с этой вашей работой, что с ней никто никогда так не обращался, — не выдержал Эртель, с ненавистью глядя на одну из шоколадных пиджачных пуговиц К., чтобы не смотреть на него самого.
— Подлец? Ну не-ет… Только хороший человек мог влипнуть в такое дерьмо! — объявил К. так громко, что даже вышколенные официанты, в неподвижном состоянии казавшиеся плоскими, все как один посмотрели на VIP-персону из своих углов. — Я многогрешен! — с фальшивым русским чувством продолжил К. — Как и вы, постные морды, как и вы. Но ведь и вы, получается, хорошие люди! Вот ведь что занятно… А я бы про вас никогда такого не подумал. А про себя тем более. Ты, Вова, не кривись. Дело не в деньгах. Тут сильно бедных нет. У меня бы хватило на сто таких вдовиц, отдал бы и не заметил. Но она меня как-то по-другому высосала. Сука, сука последняя, крапива подзаборная! Сколько я туда перетаскал! Решал все вопросы. После этого — подлец!
— Что же ей, терпеть было? — возмутился Эртель.
— А и потерпела бы! — огрызнулся К. — У меня триста с лишним человек терпят! Я обматерю, я же потом и дам украсть. Мне совсем честных тоже не надо, пусть таскают по чуть-чуть, крепче будут должны. А этой я сам, из рук давал. И счастлив был! А почему? Ради мужика ее покойного? Дался он мне, долдон, земля ему пухом. Вот как считаете, святые отцы, сколько вдовушке лет?
— Дамы такие вещи скрывают, — сонно отозвался господин Т., все плававший где-то под потолком, в лазурных плафонах псевдодворцовой живописи, уводившей взгляд в светозарные, лоснящиеся от люстры небеса.
— Тебе неинтересно? — господин К. вытаращился на бескровный, словно нарисованный молоком, профиль оппонента. — А ты все-таки послушай. Она скрывает годики, только наоборот. Ей тридцать шесть! Я знаю, потому что оформлял ее на работу. А переодеть, сводить в салон красоты, так и двадцати шести не дашь. Если присмотреться, сохранилась — жуть! Свеженькая! А косит под старушку. Пенсионерочка! Моя харьковская Люська честней ее была в сто раз. Предлагала то, что имела, и держала все свое в лучшем виде. Волосы с ног обдирала пластырями, аж кричала. Все люськи так делают, замуж хотят за богатых. И правильно. И вдовица могла бы привести себя в товарный вид, кто бы ее не взял? Так нет. Играет с нами в свою игру. Вы заметили, как она пришаркивает? У нее все туфли из-за этого изодраны. Не стерты, а порваны, как грелки. Потому что она может бегать, как горная коза! Но тормозит нарочно об землю. Как только не падает на каждом шагу!
— Нажилась со стариками. Ей, может, кажется, что только старики имеют право на заботу, покой, — проговорил Эртель, панически ощущая, как давят на нос подступающие слезы нежности к Елизавете Николаевне и нос становится весом в килограмм.
— Нет, ты ее не защищай, — злобно возразил сильно нетрезвый К., шаря пальцами в непривычной бороде. — Наша пенсионерочка не проста. Она старушкой притворяется не только, чтобы ее пожалели. Она так останавливает время. Поняли, что я сказал?! У нее ничего не меняется. Даже часы в квартире все тихие, только шуршат. Понятно, что человек по первому порыву бежит помогать с радостью. Не только же грести бабло! А она этот первый порыв снова заводит, как пластинку. И снова, и снова. Вроде всем хорошо. Но только выдержать такое человеку долго невозможно. Я, конечно, некрасиво себя повел. Зато освободился. А в конце концов и вы сделаете то же, что я сделал. А может, кто-то из вас ее и вовсе убьет! — с этими словами он захохотал, тыча твердым указательным в ребра собеседников.
— Значит, роковая женщина. Венера Московская, — иронически проговорил Т., отодвигаясь от фамильярностей К. вместе со стулом. — Когда я маленьким читал «Пиковую даму», мне почему-то казалось, что эта детка, воспитанница, переодевается в старуху-графиню и морочит Германну голову. Тоже, кстати, Лизой звали…
— Да что она вам плохого сделала?! — раздраженно воскликнул Эртель, обращаясь к К. — Она как может, так и живет! Не хотите, так не помогайте, а убивать ее за что?
— А я откуда знаю, что она сделала. Сам вот погляди на меня! — К. зажмурился, чтобы Эртелю было удобней на него смотреть, и сжал лицо в такую гримасу ожидания боли, что Эртель сразу представил, как жалок и стар бывает К. во сне, когда сам себя не видит. — А помогать не хочу, — заявил К., очнувшись. — Ни ей, ни другим. Мерзкое это занятие. И пусть мне встанет дороже! Вот будет Новый год, велю своим ребяткам поймать какого-нибудь Деда Мороза и морду ему расквашу, чтоб не ходил с мешком. А вам, длинноносые, я выражаю сочувствие. Вы такие оба серьезные люди, все у вас под контролем. А ведь не имеете никакого прогноза, чем кончится ваш благотворительный роман! Зависли, а?
— Зависли, — легко согласился Т. — Самое лучшее, если все это кончится ничем. Лично я ни за что не держусь и ничего от Елизаветы Николаевны не хочу. Не особенно даже стремлюсь ее видеть. Если рассосется, то и слава богу.
— Не надейтесь! Будет вам финал, — грозно пообещал К.
Он поднялся со страшным скрежетом вывернутого стула и, держа за горло графин, побрел через ресторан, будто переходил вброд бурный поток. Сразу за ним устремились два корректных манекена, до того стоявшие, в серых плечистых костюмах, рядом с одним из украшавших зал золоченых единорогов, у которых, на профессиональный взгляд Эртеля, было больше мускулатуры, чем полагается иметь лошади. В пройму двери было видно, как манекены, отодвинув похожего на гуся пожилого гардеробщика, помогают шефу облачиться в широкое волосатое пальтище и как тот барахтается, не доставая до дна рукавов.
— Трудно поверить, что это большой человек, новый заводчик, баловень своего министерства. А ведь я и его предупреждал, чтобы он не ходил к Елизавете Николаевне, добром не кончится, — назидательно проговорил Т., позволяя официанту, зализанному набок от уха до уха, убрать почти нетронутые тарелки. — Благотворительность должна быть на уровне бухгалтерии и в рамках политики. Только так мы можем скрывать, что ничего не можем. И, в общем-то, ничего не хотим… — равнодушно добавил он, глядя в зал, где несколько очень известных лиц жевали, странно опрощенные питанием, и было, как всегда, много свободных столов.
Тот испорченный вечер оставил у Эртеля тяжелый осадок. Перед глазами его то и дело вставали ожидающая боли гримаса К. и его туго обтянутая лысина такой неправильной формы, точно мозг под ней был завязан в узел. Он теперь догадывался, что сильные мира сего — по крайней мере, многие из них — слабы перед своими человеческими чувствами и потому заменяют их безопасными в обращении копиями. Павел Иванович и сам оценил комфортабельность этих сертификатов, когда неожиданно для себя на них перешел.
Однажды он вдруг признался себе, что больше не любит жену. Это вызвало такую бурю острой жалости к Анне, что целый месяц Павел Иванович не спускал с нее рук. Он целовал сухой пробор, серебрившийся корешками седины, а ночами не мог дождаться, когда она, похожая в сквозистой ночной рубашке на волшебный фонарь, выйдет из ванной и выключит свет. Новым обостренным зрением он увидел пятна горчицы на месте прежних смеющихся веснушек и что грубоватая медь все еще тяжелых и крупных кудрей — давно краска. Он испытал щемящее чувство и сформулировал его так, что седина и морщины у женщины — то же, что шрамы у мужчины: отметины жизни, достойные почтительной любви и любования. Он готов был принять эту новую, вдруг увиденную Анну, потому что только он знал, сколько высокого терпения и доблести потребовала от нее жизнь — жизнь с ним.
На беду, Анна стала дичиться его и тайком, потихоньку, плакать: невозможно было вынести этот сдавленный лай никогда не плакавшей женщины и бодрый вид ее, когда она, с красными сухими глазами, оборачивалась от своего неизвестного горя к растерянному мужу. Наконец она спросила, словно совершая что-то постыдное, не звонил ли Осип Борисович (был такой доктор, сизоголовый толстяк с замашками большого руководителя, наблюдавший Эртелей по семейной страховке) и не сообщил ли по секрету, что у нее, Анны, обнаружился рак. На этом все и закончилось. Эртель успокоил жену, заверил, что никакого рака у нее нет и не может быть. Они провели чудесный вечер на теплоходике, неспешно чапавшем по лиловой и шелковой Москве-реке — приветливой дороге меж кучевых, повитых печалью берегов, где, словно звезды в тучах, вспыхивали закатным золотом церковные купола. С тех пор Эртель всегда предъявлял Анне превосходно сделанную, тщательно выверенную копию всего того, что прежде испытывал к ней. Ее это вполне умиротворило; только иногда она вдруг настораживалась, озираясь вокруг с недоумением человека, пробудившегося от странного звука в незнакомом месте. Оказалось, что у Анны упало зрение, пришлось надеть очки, и, как ни подбирали оправу в самых лучших салонах, вид в очках у нее получился глуповатый. Павел Иванович хорошо понимал — особенно хорошо в те вечера, когда возвращался от Елизаветы Николаевны, — что с этой женщиной, ожидающей его дома, полирующей каждый предмет в квартире особым моющим средством, читающей, с очками MaxMara на большом беспомощном лице, новомодный роман, ему предстоит провести всю оставшуюся жизнь.