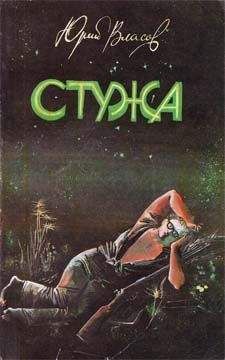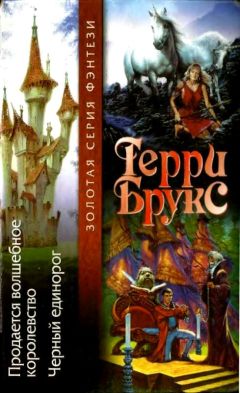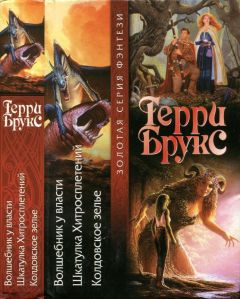В каждом вечере, в каждом вопросе чувствовалось незримое присутствие невидимого, но всесильного третьего. У людей были иные слова, иные мысли, но они их не договаривали, обрывая на самом важном. Каждый ощущал и сознавал: невидимый третий здесь, в зале…
И люди, стрелявшие в наших отцов,
Строят планы на наших детей…
Этот третий, невидимый — лишь производная величина, не прыщ на теле народа, а его органическая и по-своему здоровая часть тела, как, скажем, и сам великий вождь…
Сатанинская сила Сталина?
Ее нет. Есть народ, его врожденная способность к поклонению и подчиненности, готовность отрывать от себя десять, сорок миллионов своих жизней — и сохранять любовь, верность Ему, им. Уже одна безграничная власть вождей над жизнью каждого должна была оскорблять людей, но… В общем, совсем не случаен тост Сталина за русский народ. Сталин в полной мере осознавал — быть ему «сатанинской» силой без определенных качеств народа или не быть.
Не быть!
Именно эта покорность людей, принимающих унижения, нужду и смерть из рук вождя и восхищающихся им, делают его кем угодно: божеством, идолом, сатаной, но главное — владыкой. И за всем — отнюдь не способности вождя, а неистребимая способность, скорее даже потребность, народа быть под хозяином, не представляющего себя без хозяина, старающегося дать толкование и оправдание всему изуверству капризов и поступков хозяина — ведь Хозяин! Верить в него! Раствориться в этой вере!
Так из «сатаны», точнее, из-за «сатаны» вылезают обыкновеннейшие невежество, истовое поклонение силе, обожествление сильного (ведь не Иван Губитель, а Иван Грозный!), холопство и традиция веры, а с ними и все несчастья страны. Закономерные несчастья. Все они предопределены свойствами народа: и великими, и страшными. Вожди лишь усугубляли (или смягчали — факт практически неизвестный в нашей истории) эти свойства народа, доводя их порой до крайнего выражения, кровавого абсурда. Но они, наши вожди, были бы бессильны без поддержки народа и не поднялись бы выше шутов в представлении окружающих — шутов или официальных городских сумасшедших.
Конечно, я мог быть неточен в ответах, мог ошибиться и ошибался, но я пробивался к главному: развязать узлы страха перед незримым третьим, независимой речью разбудить в людях сознание права на свободу суждений, в том числе и права на ошибку, заблуждение. Я охотно рассказывал о спорте: записок с вопросами тут поступала тьма. Я ведь десять лет выступал за сборную страны, по праву носил титул «самого сильного человека в мире» и разбираюсь до тонкостей в тренировках, истории спорта, знаком с легендарными личностями в мировом спорте, сталкивался и с несправедливостями, равными жестокости. Но я всегда ждал, когда же исчерпаются эти вопросы. Об этом обычном свидетельствовало их повторение. И я переходил к тому, чего ждал весь вечер, ради чего жил и писал: история России, как я ее понимаю.
Это были ответы на вопросы, которые я условно называл «политическими». Я знал и знаю, эти ответы очень не нравятся многим, в прошлом они создавали невыносимые условия жизни для меня, создают и сейчас. Однако я считаю долгом вести себя именно так. Пусть будет и мой крохотный шаг к тому, дабы сделать невозможными всевластие и вседозволенность невидимого третьего, снизить рост любых Хозяев в настоящем и будущем.
Семнадцатого марта, после выступления, когда публика хлынула на сцену, я получил в подарок фотоальбом — это оказалось несколько неожиданным. Поэтому в номере я сразу взял альбом и сел в кресло, приглушив телевизор. «Подарок — почему?» — раздумывал я, пытаясь представить того человека.
Растяжно, басовито погромыхивали листы железа за окном — там начинался откос над последними этажами гостиницы. Грохоту железа вторила дверь. Она назойливо дребезжала на запоре: ветер из коридора напирал постоянно.
Дни стояли ненастно-ветреные: низкие тучи, моросящий дождь и рывками ветер, напористый, обжимающий одежду. Поэтому я избегал гулять. Без движения — тренировок, ходьбы — я ощущал какую-то неловкость, неудобство в себе. Уже два месяца минули с двух последовавших друг за другом крупозных воспалений легких, а почти за любой прогулкой увязывались простуда, недомогание, кашель — он отпускал лишь под утро. Подобные состояния совершенно несвойственны мне, я даже прибавил в весе целых пять килограммов. Обычно же я держу себя в высокой тренированности и закаленности. В любом возрасте приятно нести себя упруго и не остерегаться стужи, ветра.
Я не изменяю своей убежденности в том, что болезни (особенно легочного происхождения) — это, прежде всего, угнетенность духа: длительное стояние беды в тебе. И оно, действительно, было все последние месяцы. И я не мог с ним справиться. Беда оказалась необычной и хлестала беспощадно, по самому больному, а самое главное — она пришла с той стороны, откуда я не ждал ее и был незащищен. Я все сознавал, но без физических нагрузок чувствовал себя разжиженно, недостойно слабым, что уже само по себе, и без недомоганий, — вроде пощечины. Всю жизнь любая физическая слабость мнится мне недостойной. Я привык (и только так строю отношения с жизнью): тело служит мне — не мешает, а служит. Для этого я и дрессирую себя «железом».
Теперь надлежало терпеть и ждать. Только тепло лета способно вернуть потерянное равновесие организму.
Я покосился на литровую банку: от кипятильника восходили пузыри — белые изменчивые пустоты воздуха. Я вскрыл жестянку с морской капустой, нарезал хлеб. Лариса заварила чай. Мы молчали, приморенные вечером.
— Сколько тебе сахара? — спросил я.
— Ложку.
Нам повезло: мы купили сахар без талонов. Наши ленинградские друзья лишь разводили руками.
Пока чай настаивался, мы вяло перебирали записки — несколько сот преимущественно белых лоскутков бумаги. Я посмотрел на часы, затем на потолок. Каждый вечер, ближе к полуночи, там раздавались непонятные удары.
Мы принялись за чай, тихонько переговариваясь.
— Как страшно воет! — говорила Лариса на завыванья ветра.
Она открыла альбом на моих коленях. Под обложкой лежала аккуратная стопка бумаг. Первая страница была пронумирована цифрой 1, обведенной кружочком. Я отогнул листы, на последней странице в кружочке темнела цифра 32.
Шестнадцать листов из ученической тетради в растянутых по строчкам буквах. Письмо. Несомненно, письмо. Я обежал взглядом первую страницу: так и есть.
«Дорогой Юрий, если не ошибаюсь, то, кажется, Петрович! Вы кумир моей молодости — Вы и Томи Коно („Железный Гаваец“, как его величали в те годы). По происхождению Коно является японцем, а так — гражданин США, то есть американец, стало быть. Верно, ни на него, ни на Вас я так и не стал похож ни по результатам в тяжелой атлетике, ни телосложением, ибо выглядел все же мешковатым. Верно, не настолько выглядел безобразно как, скажем, известный Вам Леня, но и не настолько прекрасным, чтобы встать в один ряд с Вами и Томи Коно. Но чертовски был влюблен в вас обоих. Откровенно признаться, нет ни одного в мире из современных тяжелоатлетов, в кого я был влюблен так, как когда-то в вас обоих. И какой вес ни поднимают штангисты сегодня, все одно — никого не удивят. Почему? Да потому, что каждому известно как сейчас собирают силу с помощью допинга и прочих штучек.
Не думаю, что другой американец, вес которого подходил почти к двум центнерам, величаемый „человеком-краном“, был слабей физически какого-либо спортсмена, весящего втрое меньше его. Этот ребенок сегодня умудряется поднять куда больше знаменитого Андерсона.
Я тоже занимался тяжелой атлетикой и тоже физически крепкий. С восьми лет занимался гирями и выглядел намного сильнее сверстников. Например, начиная с двенадцати лет подтягивался на турнике до ста раз. В четырнадцать — уже угодил в тюрьму на пятнадцать лет, но и там не расставался со спортом. То в художественной самодеятельности занимался акробатикой, то играл в футбол, то занимался легкой атлетикой, вольной борьбой, боксом. Верно, ни вольной борьбой, ни боксом заниматься там не разрешали, но мы организовали клуб классической борьбы. Отремонтировали сами барак из никчемных под спортзал, раздобыли перчатки боксерские и упражнялись при закрытых дверях. А если появлялся кто-либо из начальства, сразу переключались на классическую борьбу. Устраивали иногда показательные выступления по ней. Но, как Вы сами понимаете, в семье не без урода: заложили нас, разоблачили и разогнали секцию спорта.
Занимался и со штангой. Увы, результаты невелики! Рывок всего семьдесят пять килограммов при собственном весе шестьдесят пять. Жим был восемьдесят пять килограммов (тогда, как Вы помните, существовало троеборье), а толчок — сто пятнадцать килограммов. Это мое лучшее достижение до 1961 года — в том году я освободился, отслужив двенадцать лет барской службы, да там же и остался, то есть на Севере, в Воркуте.