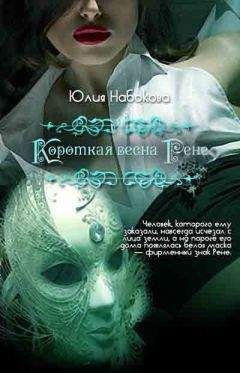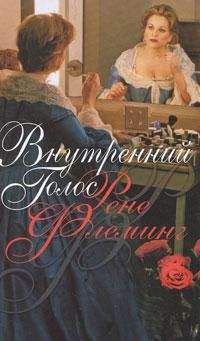С едой тоже все было не так просто. Теоретически можно было заказать ее из ресторана при отеле. Вам могли предложить горький кофе, чересчур крепкий чай, яйца, с виду похожие на окаменелости, резиновые, непропеченные тосты. И еще — склизкое мясо с подозрительным гарниром, своей желтизной напоминавшим пудинг. К тому же доставка занимала бездну времени. Бергманн иронизировал, что завтрак лучше выбирать из обеденного меню, потому как раньше чем часа через четыре все равно ничего не принесут. В итоге мы жили в основном на сигаретах.
Пару раз в неделю Бергманна охватывали приступы черной меланхолии. Я узнавал об этом еще с порога. Промаявшись всю ночь бессонницей, режиссер рвал на себе волосы. Сценарий не вытанцовывается. Дороти рыдает. Разрядить обстановку можно было, лишь вытащив Бергманна на ленч. Ближайший ресторан, довольно мрачного вида, располагался в соседнем с отелем универмаге. В этот ранний час там было малолюдно, редкие посетители сидели в самом дальнем углу, где зловеще тикали здоровенные напольные часы, будто перенесенные сюда из рассказа Эдгара По.[23]
— Они отсчитывают каждое мгновение, — говорил Бергманн. — Смерть подкрадывается все ближе и ближе. Сифилис. Нищета. Чахотка. Раковая опухоль разрастется неизлечимыми метастазами. Мое искусство — дрянь, профанация. Это конец, полное фиаско. Война. Отравляющий газ. Нам всем уготована смерть в душегубке.
И начинал живописать грядущую войну. Нападение на Вену, Прагу, Лондон, Париж; небо, черное от самолетов, роняющих смертоносный груз; стремительное порабощение Европы; покорение Азии, Африки, обеих Америк. Истребление евреев, уничтожение ученых, гигантские бордели, куда сгоняют неарийских женщин; сожженные картины и книги, разбитые статуи, повсеместное уничтожение обреченных стариков; массовая стерилизация расово-неполноценных, тотальное оболванивание молодежи; Франция и Балканы отброшены в дикость, там разбиты спортивные площадки для гитлерюгенда; повсюду коричневое искусство, коричневая литература, коричневая музыка, коричневая философия, коричневая наука и — новая религия — гитлерианство, со своим Ватиканом в Мюнхене и Лурдом на Берхтесгадене[24] — мешанина из Бытия Фюрера, перлов из «Mein Kampf» и большевистской ереси, причастия Крови и Почвы, приправленная изощренными ритуалами наивысшего единения с Отечеством — с человеческим жертвоприношением и крещением сталью.
— Все, — пророчествовал Бергманн, — умрут. Все. Хотя нет… один останется. — Он показал на безобидного толстяка, одиноко сидящего в дальнем углу. — Этот уцелеет. Такие пойдут на все, лишь бы сохранить себе жизнь. Двери его дома распахнутся перед захватчиками, он заставит жену готовить им стряпню, а сам, ползая на коленях, станет прислуживать им. Отречется от матери. Отдаст свою сестру солдатам. В тюрьме станет стучать на сокамерников. Осквернит Писание. Будет держать родную дочь, пока ее будут насиловать. А в награду получит место чистильщика сапог в общественном сортире и будет вылизывать эти сапоги языком… — Бергманн сокрушенно покачал головой. — Страшноватенькая картинка вырисовывается. Зависть не гложет.
После таких разговоров у меня на душе оставался странный осадок. Я, как и мои знакомые, понимал, что войны в Европе не избежать, но понимал как-то умозрительно. Так человек знает, что он смертен, но все-таки не верит, что это может случиться с ним. Война была так же непостижима для моего сознания, как и смерть. Я не мог ее представить, потому что за ней ничего не было видно. Разум отказывался ее принимать; так зрителю не дано увидеть, что происходит за кулисами театра. Война, как и смерть, перечеркивала мое представление о будущем. Стена, за которой — неизвестность. Стена означала мгновенный и безоговорочный крах моего мира. Когда я думал о ней, меня охватывал тоскливый ужас и начинало противно сосать под ложечкой. И я либо отмахивался от неприятных мыслей, либо память милосердно подсовывала мне свои лазейки. И, как каждый человек при мысли о собственной смерти, я втайне шептал себе: «А вдруг? Вдруг пронесет? Вдруг обойдется?»
На фоне апокалиптических пророчеств Бергманна война казалась совсем уж нереальной, я даже находил их забавными. Подозреваю, и сам рассказчик не до конца верил в них, порой в его словах мне даже чудился благодушный юмор… Пока он потчевал меня этими страшилками, его взгляд блуждал по залу, задерживаясь на хорошеньких мордашках, которые направляли его воображение в более приятное русло.
Более всех он отличал управительницу ресторана, миловидную блондинку лет тридцати с приветливой, материнской улыбкой. Бергманн относился к ней с необыкновенной теплотой. «Довольно одного взгляда, чтобы понять, что эта женщина счастлива. По-настоящему счастлива. И это счастье подарил ей мужчина. Ее поиски закончены. Она обрела то, что мы ищем всю жизнь. Она видит нас насквозь. Она может легко обойтись без книг, без всякой философской зауми, ей не нужен ни поп, ни духовник. Ей понятен язык Микеланджело и Бетховена, ей понятен Христос, Ленин, даже Гитлер. Она ничего не боится, ничегошеньки… О такой женщине можно только мечтать!»
Бергманна женщина всегда встречала с неизменным радушием; она могла подойти к нашему столу справиться, все ли ладно. «Божьими, а больше твоими, душенька, молитвами, все ладно, душенька, — отвечал Бергманн. — Ты одним своим присутствием вселяешь в нас уверенность в себе».
Не знаю, какие мысли проносились у женщины в этот момент, но в ответ она светло и чуть смущенно улыбалась. Она и впрямь была очень мила.
— Убедились? — спрашивал Бергманн, когда она отходила. — Нам не нужны слова.
Повеселев и обретя душевное равновесие, чему немало способствовала и das ewige Weibliche,[25] мы возвращались, чтобы снова и снова окучивать невзрачный росток фиалки, чахнущей в спертом воздухе нашего жилища.
В Берлине полным ходом шел процесс о поджоге Рейхстага. Он растянулся на весь октябрь, ноябрь и зацепил начало декабря.[26] Бергманн не пропускал ни одного сообщения. Каждое утро он встречал меня вопросом: «Слышали, что он вчера сказал?» «Он» — это, разумеется, Димитров. Я, конечно, слышал, поскольку следил за событиями с не меньшим интересом, чем Бергманн, но я бы скорей язык проглотил, чем согласился лишить себя представления, следовавшего за этими словами.
И тут начинался театр одного актера. Бергманн был и желчным председателем суда доктором Бунгером, окончательно запутавшимся и оттого раздражительным. И одурманенным, безразличным ко всему, сломленным Ван дер Люббе. И честным, взъерошенным Торглером. Он подражал размашистому шагу солдафона Геринга. Он был Геббельсом, изолгавшимся сморчком со змеиной головкой. Он был пламенным Поповым и невозмутимым Таневым. И, конечно же, Димитровым.
Бергманн преображался буквально на глазах: буйная, всклокоченная шевелюра, иронично-угрюмая прорезь губ, широкие жесты, горящие глаза.
— А известно ли господину рейхсминистру, — гремел его голос, — что в руках народа, который вы обвиняете в якобы преступном менталитете, сегодня судьба шестой части суши, территория великого, лучшего на свете государства под названием «Советский Союз»?
И тут же начинал бушевать, копируя бульдога Геринга:
— Я скажу вам, что мне известно! Мне известно, что вы красный шпион, явившийся в Германию, чтобы поджечь Рейхстаг. По мне, так вы всего лишь грязный мошенник, по которому плачет виселица.
По лицу Бергманна мелькает едва уловимая, леденящая улыбка. Словно тореадор, не спускающий глаз с разъяренного животного, он вкрадчиво спрашивает:
— Признайтесь, господин министр, вы ведь очень боитесь моих вопросов?
Тут лицо Бергманна наливалось кровью; казалось, его вот-вот хватит апоплексический удар. Он потрясает в воздухе кулаком. Визжит как помешанный: «Вон отсюда, негодяй!»
Бергманн-Димитров насмешливо отвешивал исполненный достоинства, легкий поклон. Поворачивался, словно собираясь уходить. Медлил. Его взгляд падал на воображаемую фигуру Ван дер Люббе. И вот он, этот незабываемый исторический жест! Он обращался к Европе:
— Здесь только этот жалкий Фауст… Но где Мефистофель?
И гордо удалялся.
— К-у-у-да? — летел вслед грозный рык Бергманна-Геринга. — Вы не имеете права покидать зал суда без моего разрешения.
Еще мы с Дороти часто просили повторить сцену допроса Ван дер Люббе. Он, ссутулившись, стоял перед своими обвинителями: безвольно повисшие, как плети, руки, опущенная голова. В нем не осталось почти ничего человеческого — перед нами жалкое, сломленное, затравленное существо. Председатель требует, чтобы он поднял глаза. Ван дер Люббе не реагирует. К председателю присоединяется переводчик. Потом доктор Зайферт. Тщетно. Вдруг, словно удар хлыста, раздается властный окрик опытного дрессировщика. Это Хелдорф:[27]«В глаза смотреть! Живо!»