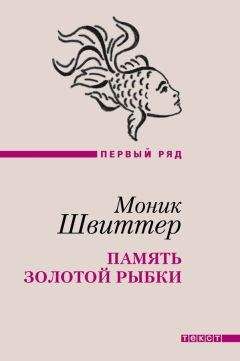— Пожалуй, мне пора. — Она встает. — Материала я собрала достаточно, этого должно хватить. Я вам пришлю интервью на проверку.
— О Господи, сядьте на место, я вас умоляю! Мое тело неумолимо гибнет, и ладно бы постепенно, незаметно, — так нет же, каждый день я маленькими, но уверенными и ощутимыми шагами приближаюсь к могиле, я ее так и вижу. Это ужасно. Отнеситесь же с пониманием к тому, что я не все помню.
— Да ладно вам. Мою мать вы не узнавали, когда мне пять лет было. Мужчины всегда живут в настоящем — так она у меня говорит. До свидания.
— Но Аннегрет рассчитывала, что вы останетесь отобедать. И еще: если позволите, я хотел бы кое-что добавить под запись. Хайку и хоррор! — произносит он, будто резюмируя все произошедшее.
— Может, сделаю такой заголовок. Спасибо. А может, и нет.
— Давайте поговорим об этом за обедом. — Он смотрит ей в глаза. — К тому же я хочу вам еще кое-что рассказать. Прошу вас.
*
— Вкусно?
— Да, только аппетита нет.
— Ко мне ведь, знаете ли, давно уже никто не приходит. Вчера, когда вы уехали, я посмотрел на вашу фотографию, и мне так захотелось, чтобы вы вернулись, погасили свет, бросились на меня и повалили меня на диван. Или на письменный стол. В кладовой. Или в подвале. Кругом темно, и только ваше обнаженное тело было видно в свете фонарика, который я держал в руке и направлял на вас. Вы же моего тела не видели, и оно заработало, как машина после ремонта. А вы были механиком. Теперь мне так трудно расстаться с этими видениями. Все ведь всегда упирается в наше тело, разве нет? — Он ударяет себя в грудь. — Мы пишем и пишем, чтобы одолеть его, а в итоге все равно проигрываем. Когда я написал свой первый роман, а он целиком посвящен моему чуждому подростковому телу, я повернулся лицом к миру, к другим, я вознесся над плотью, по крайней мере, до некоторой степени, какое было счастливое время! Теперь же я вернулся в себя, в чуждое мне хиреющее тело. Такова жизнь. Судьба всего земного.
— Вы говорите только о себе.
— Да, это ужасно. Я же совсем иначе хотел сказать. Можно еще раз?
— Последний шанс.
— В зеркале моем
Я — и ты ко мне близко
Некуда ближе.
— Спасибо, что накормили.
— Спасибо, что пришли.
ЕЕ ОБУВЬ
(Перевод Е. Ошариной)
Под впечатлением от зарисовки
Роберта Вальзера «Официантка»
Чему я научилась, так это улыбаться. Когда я спрашиваю себя, что мне принес прошедший год, что нового, поднялась ли я по лестнице жизни, я отвечаю одной фразой: я научилась улыбаться. Обычно итоги подводят в день рождения или под Новый год — только в эти дни мы достаточно снисходительны к себе, — но если я сегодня, прямо посреди года, в ничем не примечательный для меня день, не связанный ни с какими памятными событиями, встану перед зеркалом, загляну себе в глаза и вспомню весь прошедший год, то скажу себе в лицо: я научилась улыбаться. Я улыбаюсь, и это уже доказывает, что я продвигаюсь по лестнице жизни. Конечно. Кто бы мог подумать, всего год назад подумать о том, что я через каких-то сто дней этому научусь. Вот какая лестница, удивительная, непостижимая, красивая лестница жизни.
А ведь это она меня научила. С первого дня она начала меня учить. Прямо с самого первого момента, когда я поздоровалась и представилась, с того самого момента, как она посмотрела на мои ноги и сказала: «Нет, девочка, в этих туфлях ты здесь работать не будешь», — с улыбкой, конечно. Ее улыбка — это знак равенства, состоящий из довольства (на нижней губе) и морального удовлетворения (на верхней), это улыбка-маска, за которой неизвестно что кроется. С этой улыбкой она протянула мне удобную обувь, в которой, по ее мнению, я должна была приступить к работе, с улыбкой в общих чертах рассказала мне, что я должна делать, объяснила распорядок и требования к чистоте, показала, как работает пивной кран, кофе-машина и кассовый аппарат. С улыбкой она смотрела, как я делаю первые шаги в ее обуви, оборачиваюсь и нерешительно улыбаюсь ей в ответ.
— Не так вымученно, — говорила она и повторяла это снова и снова, а перестала только недавно, и мы стали друг другу улыбаться. Я научилась этому, наконец-то.
Сегодня четверг, это не имеет никакого значения, как и тот факт, что я работаю здесь уже четырнадцать месяцев, так же не важно, как меня зовут, как зовут ее, не важно, что я буду делать после работы, и встретит ли он меня, как обещал.
Последний посетитель выложил на барной стойке всю свою мелочь — несколько одинаковых башенок из монет. Одной оставшейся монеткой он отстукивает пьяный ритм по лакированной деревянной столешнице и пристально смотрит на свою обувь.
— Подойди-ка сюда. — Она вертит в руках две маленькие рюмки на тонких ножках. Я сажусь на табурет, широко расставив ноги, и поднимаю свою рюмку.
— За жизнь, — говорит она, пытаясь опереться о барную стойку рукой, запрокидывает голову и опустошает рюмку.
Коньяк разливается, обжигая нёбо, я задерживаю его во рту, прежде чем проглотить.
— Устала?
Я киваю:
— Еще.
Она наливает еще.
— Сколько с меня, барышня? — говорю я.
Она улыбается своей улыбкой, многозначительно качает головой. Последний посетитель стучит, громко и монотонно, стучит непрерывно, мы слушаем этот стук какое-то время.
— Господин требует счет, — говорю я.
Она дает понять, чтобы я не дергалась.
Последний посетитель есть всегда и везде; а еще бывают постоянные посетители. Когда такой входит, сразу понятно, кто перед тобой, однозначно и несомненно. Отсутствие приветствия (меня же тут знают); взгляд, которым он никого не удостаивает, когда направляется к своему месту; вид, с которым он бросает ключи от машины на стол, еще не сев за него: это все не оставляющие сомнения признаки. Его узнают сразу, всем кажется, будто он никуда не уходил, этот постоянный посетитель, будто он такая же неотъемлемая часть этого мира, как барная стойка или касса, без которых ни одна пивная не может обойтись. Постоянный посетитель бережно распределяет свои силы. Размеренно, небрежно и расслабленно он входит в этот мир, в мир, откуда он родом.
Последний посетитель есть всегда и везде, а еще бывают постоянные посетители, в том числе здесь, в том числе и сегодня. Она в третий раз уверенно наполняет рюмку, и в этот момент открывается дверь и входит он. Не здороваясь, не удостаивая нас взглядом, он кидает ключи на стол, падает на скамейку и всем своим видом выражает требование. Обслужите меня, незамедлительно, по высшему разряду, соответственно моему положению и имени.
— Эспрессо граппа.
Каждый вечер он приходит позже, специально, каждый вечер все позже, все ближе к закрытию.
— Кофеварка уже вымыта, — говорю я, — сожалею, — я улыбаюсь улыбкой, которой меня научила она.
Он тут же хватает меня за запястье и сильно сжимает его.
— Слышь, ты, — шипит он, отпускает мою кисть и движение его руки вызывающе высокомерно. — А теперь давай, — он махнул рукой в сторону барной стойки. — Пошла.
Я подавляю в себе страшные проклятия в его адрес и иду за стойку искать топор.
Там отважно стоит она, ждет меня и спокойным серьезным взглядом смотрит мне в глаза, но я вижу ее беспокойство, я вижу ее страх и чувствую, что меня предали. Завитый мелированный локон, который она каждый день укладывает поверх лба и закрепляет лаком, хорошо скрывает морщинки тревоги и горести, следы беды и одиночества, но не страх в ее глазах. Я отрываю взгляд от нее, смотрю мимо, в сторону кухни и слышу ее шаги за спиной. Она стоит прямо за мной, я чувствую, как она дышит мне в затылок.
— Я убью его, — говорю я. Делаю пару нетвердых шагов вперед, в сторону. — Я убью его.
Она обнимает меня сзади, я наклоняю голову и сдерживаю всхлипы, вырывающиеся из горла. Она прислонилась щекой к моей спине.
— Боже, — говорит она, — что с тобой?
Я хватаю ртом воздух, и в тот момент, когда слезы хотят вырваться наружу, она резко бьет меня кулаком между лопаток, где только что была ее щека.
— Возьми себя в руки.
Моментально моя ненависть перекидывается с него на нее, мне хочется ее ударить, встряхнуть и пусть мне самой станет от этого больно. Я слышу, как она выходит из кухни, слышу стук ее каблуков по деревянному полу, я слышу шипение потревоженной кофеварки, уже погрузившейся в сон, слышу, как она урчит и ревет, слышу дребезжание чашки на металле поддона, пока из краника льется кофе, и слышу, наконец, как кофеварка, выпустив последнюю струю воздуха, вновь успокаивается. Я слышу позвякивание ложки, слышу скрежет донышка бутылки по стеклу барной стойки, слышу, как горлышко постукивает по рюмке и как булькает граппа, наливаясь в рюмку. С порывистой решительностью я выхожу из кухни и иду к стойке, беру маленький поднос у нее из рук, вижу ее улыбку — ту самую, которой она научила меня, подавляю в себе ненависть, которая поднимается изнутри словно отрыжка, ненависть, вызванную этой улыбкой, отворачиваюсь и несу поднос к его столику.