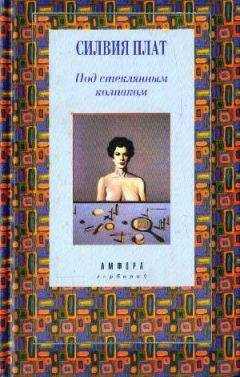Феликс не проронил более ни слова, пока мы добирались до лагеря, а там я забрал свой рюкзак и пошел пешком до Новгорода. Компании я сказал, что у меня срочное дело в Ленинграде.
Срочные дела обнаружились позднее еще у двух членов экспедиции.
— Рабы! — продолжает клеймить нас Феликс и достает из портфеля эстонский журнал «Искусство и быт». — Посмотрите, как надо жить! Сейчас же не каменный век, идиоты!.. Окна — это глаза дома.
Похмыкивая, мы разглядываем картинки и соглашаемся, что все это красиво. Но деньги?..
— Не на те казак пьет, что есть, а на те, что будут, — напоминает Феликс. И обещает достать к весне нужную сумму.
— А где ты возьмешь? — интересуюсь я.
— Не твой вопрос. Готовься через год отдать свою долю…
Мы решаем заказать к весне просторные рамы. И дело не только в посулах Феликса разжиться деньгами. Мы, наверное, чувствуем, что без него наш строительный оркестрик распадается.
Его «бол-л-лван!», которое он произносит так, словно в два удара вколачивает гвоздь, или «идиоты!», сказанное с различными интонациями — от короткой и сердитой до иронично-восхищенной, не обижают нас. Феликс любит людей, поэтому многое ненавидит.
Декабрь стоит морозный, скрипучий, и мы на время останавливаем строительство. Феликс и Молодцов пропадают по выходным на работе, я вновь хожу в Публичную библиотеку и роюсь в литературе. Тема, которой я руковожу, моя первая самостоятельная научная работа, и хочется сделать ее на «отлично». Интуитивно я понимаю, что она лишь частица бумажной метели и не позднее чем через год выпадет в осадок в институтском архиве; и от этого немного скучно. И бодрый тон телевизионных комментаторов не радует. Скорее наоборот…
Иногда звонит Удилов и интересуется, как дела.
— Нормально, — отвечаю я и из вежливости спрашиваю: — А как у тебя?
— Да, понимаешь… — Он начинает рассказывать, как у него дела.
Как Никола работает, так и говорит — медленно, нудно, с ничего не значащими подробностями и паузами, будто что-то доглатывает.
Когда Вера просит Удилова отпилить кусочек доски для какой-нибудь хозяйственной надобности, он недоверчиво смотрит на жену, словно постигая мысль и испытывая — не шутит ли? Затем озабоченно хмурится, неторопливо, как в замедленной съемке, разворачивается, осторожно переступая ногами, и идет готовить инструмент. Он не спеша выдвигает из-под дивана ящики с коробочками, зачем-то берет их в руки, читает аккуратные надписи на них, открывает, смотрит на содержимое, кладет на место и достает наконец ножовки. Одну, другую, третью. Стоя на коленях, он замирает с прищуренным глазом, проверяя разводку пилы, — словно целится из винтовки, и горестно замечает, что без него кто-то похозяйничал с инструментом. Неизвестно, кто, но сразу видно, что пилили по гвоздям. «Да брось ты, Николаша, — мимоходом успокаивает его сестра. — Никто твой инструмент и пальцем не тронул». — «Ну да! Не тронули… — Удилов поднимается с пола и идет к жене: — Вот, посмотри, какие следы!..» — «Иди ты в баню! — отмахивается сестра. — Дай мне пилу, я сама отпилю!» — «Отпилишь… — хмыкает Удилов и садится вострить пилу трехгранным напильником с самодельной пластмассовой ручкой. — Только приведешь инструмент в порядок, так кто-то испортит…»
Заточив пилу, он выбирает доску, разглядывая каждую долгим немигающим взглядом, и идет к Вере уточнять размеры. Затем, насупившись, он подтачивает карандаш, осматривает линейку — не искривилась ли за время лежания в чемодане? — и, осторожно приложив ее к доске, с легким нажимом чиркает карандашом. Вслед за этим он низко склоняется над риской, едва не касаясь доски носом, и, не дыша, рассматривает, как получилось. Похмыкав и пожевав губами, он проводит вторую риску — с большим нажимом. И только после этого берет в руки пилу. Пилит он аккуратно, но перекосив в остервенении лицо, словно каторжник, добывающий свободу куском напильника.
С отпиленной доской, с которой он уже снял заусеницы, Никола идет к жене и молча перетаптывается за ее спиной, пока она его не заметит и не оторвется от кастрюль: «Ты чего, Коля, хочешь?» Никола смотрит на нее, как на врага, и раздувает ноздри. Как она могла забыть, что он готовил ей доску?..
«Сделал? — вспоминает жена. — Ну и молодец, давай сюда. Хорошая дощечка получилась. Молодец, Коляша!» Она сует доску под мусорное ведро, чтобы поднять его на два сантиметра, и Удилов, потоптавшись возле ведра, идет собирать инструмент. Он вновь осматривает пилу, напильник, линейку…
Я шарахаюсь от его инструмента, как от высокого напряжения. Однажды я сломал ему какое-то дефицитное сверло. Он так скрипнул зубами, что отвалилась коронка. Молча скрипнул. Был потрясен моей неаккуратностью.
Любимое занятие Удилова — раскладывать по коробочкам разные финтифлюшки и выписывать из газет интересные сообщения. Газеты он читает подолгу и внимательно. Как говорит Феликс, Никола много знает, но мало понимает. У него можно справиться, как зовут королеву Нидерландов или во что обошлось строительство моста через Босфор турецким налогоплательщикам. «Постой-постой, — задумчиво щурится Удилов. — Сейчас я вспомню, где у меня записано». И достает с книжной полки нужный альбом. Мне кажется в этот момент он торжествует. Вот, дескать, вы все считаете себя умниками, а без меня обойтись не можете. Иногда я специально обращаюсь к нему за справкой, чтобы подбодрить. Никола листает альбом и перечисляет между делом записанное: «Королевство Камбоджия… Это не то. Глубины Мирового океана. Не то. Так, сейчас найдем. Вот, кстати, стоимость редких почтовых марок на мировом рынке. Или, сколько весил мозг Тургенева. Не интересуешься?..»
Однажды я узнал, что он много лет выписывает результаты футбольных матчей высшей лиги, хотя знаком с этой игрой чисто теоретически. Пару раз мы уговаривали его поиграть с нами на полянке против местных пацанов, и Феликс после первого тайма сказал, что убьет Николу, если тот будет бить по мячу зажмурившись и говорить, что срезалось. Пацаны валились со смеху на траву, и только благодаря этому мы не проиграли. Сестра тогда надела тренировочные штаны и вышла на поле. Ей, наверное, было неловко перед сыновьями, которые всхлипывали, но продолжали играть в нашей команде.
Никола же отполз в тенечек и стал жаловаться, что игра идет не по правилам и ему отдавили ноги. Поэтому хорошего прицельного удара ему никак не удавалось нанести. За такую грубую игру надо показывать красную карточку и удалять с поля, ворчал Никола.
После игры, когда мы обливались водой у колонки, Феликс скрытно подмигнул нам с Молодцовым и похвалил в общих чертах игру Удилова.
— Другое дело, что пацаны играют, как черти, — сказал Феликс. — Толкаются, понимаешь, а Коля боится их уронить…
— Конечно я боялся их уронить! — Никола расцвел и, скинув рубашку, с хыканьем сунулся под холодную воду. — Покалечишь кого-нибудь, потом по судам затаскают…
Два его сына повеселели и, схватив полотенце, стали растирать отцу спину.
К концу января морозы спадают, и мы едем на стройку.
Снежный простор успокаивает, пахнет дымком, солнце карабкается по краю небосклона. Далеко слышны голоса лыжников, скрип палок, смех. Мы рассуждаем, как славно будет приехать сюда через пару лет зимой — затопить котел парового отделения, прогреть дом, приготовить обед на газе, достать из подпола грибки и огурчики, пробежаться на лыжах, устать, замерзнуть, а потом сесть за стол, включить телевизор… И чтобы по полу можно было ходить в одних носках. А к вечеру разжечь камин.
Снегу по колено, и мы след в след пробираемся к нашему домику. Все вроде на месте. Внутри просторного сруба спит с закрытыми ставенками наш «старичок». Снежная шапка, придавившая дом, слегка подтаяла и выпустила колючие сосульки. Штабели плах и досок, укрытые рубероидом, лежат нетронутыми. Цепочки кошачьих следов вокруг них.
Феликс гремит замком, и мы входим, покряхтывая и топая ногами в промерзшую избушку. Пахнет сыростью, тряпками, печкой. Свет лампочек кажется маслянисто-желтым, и я иду открывать ставни. Другое дело! Феликс гасит свет и принимается растапливать печку. Удилов с лопатой идет расчищать дорожку. Я надеваю холодные валенки и бегу за водой.
Сейчас все будет в порядке! Начнем работать, согреемся, просушим над печкой одеяла, растопим лед в умывальнике, сварим картошку…
Жаль, что не видит отец нашей стройки, думаю я, набирая стылую тягучую воду. Он бы порадовался. В конце своей жизни отец мало радовался.
…Со смертью матери семья дала трещину. Мы все, кроме Феликса, жили под одной крышей, но дома не получалось.
Томились по разные стороны фанерной перегородки две молодые семьи — Молодцовы и Удиловы. Пытался вжиться в богему тридцатилетний слесарь-сборщик Юрка. Я учил уроки и ходил заниматься боксом в «Буревестник». Отец стучал на машинке письма старым друзьям и пытался, как прежде, устраивать по выходным семейные обеды. Получалось плохо. Приходил Феликс, отец, в белой рубашке с галстуком пытался шутить, вспоминал веселые истории, усердно требовал попробовать огурчики, грибную подливку, которую любила мать, зятья молчали, сестры избегали встречаться глазами, и о прошлых дружных застольях напоминали лишь белая скатерть с синими драконами, хрустальные подставки под ножи и вилки и высокая ваза с сухими цветами в центре стола.