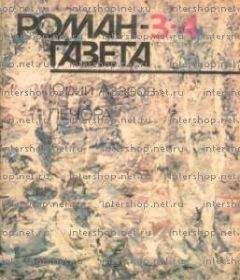— Неужели нельзя одно мне одолжение сделать, — не совать руки в карманы? Почему ты заставляешь меня так мучиться?
— Хорошо, хорошо, — бормочу я едва слышно; так приятно ощущать на себе эту выглаженность и мягкость шелка на шее и руками касаться точно к горячим застывающим карманчикам.
А мама подходит — мне головой чуть до подбородка достает, потому что каблук у меня высокий, а она в носочках шерстяных, парусиной обшитых, и снимает какие-то ниточки и пушинки с плеча, приглаживает рукав и настоятельно требует, чтобы я снял пиджак: она, видите ли, складочку приметила — разгладить утюжком должна, а я вырываюсь: «Хватит!» — кричу, а она настаивает, и я уступаю, потому что вспомнил, что у меня еще план не дописан к последнему уроку. И она проглаживает складочку, и я снова надеваю пиджак, краем глаза заглядываю в учебник, а мама приказывает: «Да стой же ты ровно». А мне ровно не стоится, потому что мысль в голове забегала, и я строчку в план должен дописать, а мама зубами еще какую-то ниточку на рукаве откусывает, и я говорю:
— Есть же ножницы…
А мама меня не слушает: она вся в этих приглаживаниях, точно изделие последнее в свет выпускает, точно ее искусность будет на виду у всех рассматриваться.
И я действительно в школе буду ощущать на себе взгляды детские: и по воротнику пройдутся, и по лацканам пиджака пройдутся, я и лацканы этак невзначай, небрежно, будто в забытьи, потрогаю, и пуговицу нижнюю на пиджаке потрогаю, застегнута ли, проверю, чтобы не оказалась видной манишечка. Нет, все. в порядке у тебя, говорят детские глаза, и девчонки удовлетворены моей опрятностью. Какое-то смущение их конечно же берет: чувствуют они нефабричность моих воротничков и галстучков: где-то в их подсознании я чуть падаю в цене, а сознание не находит изъяна, потому что мама знает дело туго: не придерешься.
И в учительской мне Агния Прокофьевна бросит: «Ну и эстет же вы, Владимир Петрович, такие рубашки носить. Где вы их достаете?» А я лихо: «Из фамильных сундуков родовых». И никому не проговорюсь, что у меня вместо рубашки всего полметра материи ароматной на груди, а дальше по спине пошла простынная ткань, иногда прямо по голой шкуре пошла: не любил я сроду нижнего белья. И по этому поводу мелкие стычки с мамой.
— Пораньше приходи сегодня, стирать поможешь, — говорит мама, и этот последний финальчик приберегается на самый последок, потому что мама знает, что слово «стирать» у меня вызывает бешеную ярость.
— Ты что, с ума сошла! Опять стирать! Сколько можно!
— А что, по-твоему, сушить грязное белье надо? Можешь посмотреть, сколько накопилось. В чистом так любишь ходить и на белом любишь спать…
— Не люблю я в чистом ходить. Не люблю я на белом спать. Сшей черные простыни. По крайней мере, оригинально.
— Совсем взбесился! — размахивает мама руками, расхлестывая по комнате свой южный темперамент. — Мертвецов и то в черное не завертывают.
У меня перед глазами сразу картинка возникает: я мертвец и весь в черном — совсем неэстетично. Пожалуй, мама права: спать на черном, наверное, не очень приятно. Черт знает что, надо же такое человечеству придумать, каждый цвет что-то да значит. Черный — траур, красный — радость. Данте впервые встретил Беатриче в кроваво-красном платье — как вспыхнула его детская душа, ему было девять, а ей восемь, а потом через девять лет новая встреча, и все девять лет он ждал. Он жил и ждал свою вечную, самую прекрасную Беатриче. И Беатриче явилась в белом. В сиянии белого. А потом Беатриче явилась в розовом. В моей груди на секунду перехватывает дыхание, и мама почувствовала то мое состояние, какое с недавних пор стало приходить ко мне, приходить и как бы отделять меня от этой суетной жизни, приходить, чтобы унести меня в мир розово-белых тайн. Мама точно прикрывает свой испуг наигранной улыбкой, советом, который в последние дни все чаще и чаще срывается у нее с губ:
— Вот и женись и что хочешь тогда делай.
— Женюсь, — говорю я спокойно, и во мне вновь что-то забилось под ложечкой, как тогда, в автобусе, перехватило, а у самого никакой уверенности в том, что я возьму и женюсь, счастливо женюсь, нет этой уверенности, а есть одна боль, боль от того, что сверкнуло, ослепило и ушло. И я со злостью говорю: — На стиральной машине женюсь. Одной нашей учительнице из Москвы привезли такую машинку — и стирает, и выжимает. Хочешь, перестираю тебе все белье?
— Делай, что хочешь, ты хозяин, — обиженно говорит мама. — Я человек маленький. — В ее голосе слышатся обидчивые интонации, способные перейти в бог знает какую истерику.
Я боюсь этого как огня. Потому и целую ее, и успокаиваю, а сам твердо решаю напроситься к этой учительнице в гости крутнуть там ручку стиральной машины, которую я еще не видел в жизни, а представлял машину с ручкой непременно: крутишь как мясорубку, а из нее белье отжатое и выползает.
И так, промежду прочим, я подойду в школе к этой учительнице (с мужем её, военным, недавно познакомился) и о моей мамочке невзначай скажу, что руки у нее ослабли, а на самом деле у мамы столько силы в руках, что хоть кувалдой бей, хоть бревнами ворочай: одеяла байковые я отжать не мог, а мама — пот на лбу, одеяло почти сухое вывертывается, раскручиваясь в конце.
* * *
А вечером как ошалелый прибегу я и в мешок, в котором книжечки носил — все белье и все простыни, которые поприличнее, и пододеяльники, которые без заплат, и рубашки, и занавески, и покрывала, и все тяжелое и трудное для стирки.
— И не стыдно тебе с бельем к чужим, людям? — бросает мама, скрестив руки на коленях.
— Что за чепуха, — отговариваюсь я, на минутку прикидываю нюансик, как этой учительнице, тоже в муфтах и шубах — одна серая, другая с волосом длинным, но приглаженным и блестящим, точно золотыми нитками пошел волос какой-то твари необычной, — как не вяжется мой мешочек с ее муфтами и шубами, но отступать некуда, так как выварку я ненавижу больше, чем стыд свой и я мчусь к учительнице с мешочком, где встречают меня на пороге — и муж ее, Леня, и она сама в домашнем фартуке поверх свитера.
Мы стираем с Леней, и он мне о, достоинствах машины рассказывает, а учительница, Софья Павловна, ужин готовит и бабочки открывает разные, и смех ее по комнатам раскатывается — мне бы так с женой в одной комнате, — а Леня учит меня, как стирать, а я ему про Макиавелли рассказываю, про принципы управления людьми.
Леня слушает. Успевает между делом обхватить ладонью крутое бедро Софьи Павловны. И между делом замечает:
— И мой отец мне всегда говорил: «Помни, Ленька, никому не делай добра. Чем больше делаешь людям добра, тем тебе же хуже будет».
— Ну, куда вас понесло! — это Софья Павловна к столу нас приглашает.
Мы ужинаем. А за ужином я почти шепотом, доверительно рассказываю о том, как Родриго Борджиа. Александр VI, папа римский, сначала родил дочь Лукрецию от любовницы своей Джулианы, а потом сыновей — Чезаре и Хуана, а потом стал с двенадцатилетней дочерью жить, а потом и сыновья его стали с дочерью, то есть с сестрой, жить…
— Иди ты! — орет Леня и наливает мне еще одну рюмку.
Я рассказываю ему еще несколько историй, а потом бегу домой, потому что завтра у меня преответственнейшее свидание. Директор дневной школы Новиков вызывает меня, чтобы предложить временно вести уроки литературы в его школе.
Новиков Алексей Федорович (Анатолий Фёдорович Новинский, фронтовик. Прим. админ. сайта) — директор дневной школы. Красное чудовище в блестящей кожанке. В папахе коричневого каракуля. Голубые, совсем невинные глаза. Лицо новорожденного. Круглый животик, и когда ходит, ноги врозь. Говорит медленно, придает каждому слову значительность. Машинная четкость мышления. Смех садистско-визгливый, и глаза слезятся от радости, когда смеется. И руки короткие, и пальцы розоватые. Это потом он мне таким будет казаться, а в первое время я, наслышанный о его необыкновенной образованности, его смелости (чего хочешь, может добиться и никого не боится — так говорили о нем), шел к нему с некоторой настороженностью, как идут к строгому и умному начальнику в первый раз. Но уже переступив порог кабинета, я хоть и почувствовал, что меня изучают, а все же глаз его не показался мне ни злым, ни лукавым.
— Я знаю про ваши опыты в Соленге, — вполне дружелюбно сказал Новиков. — Сама по себе мысль читать историю вместе с литературой и искусством мне представляется занятной. Но это очень трудно. Нет ни программ, ни учебников.
— Я сейчас обстоятельно изучаю материал, чтобы поточнее определить приемлемые для детей формы изложения.
— Может быть, факультативы организовать? — сказал Новиков. — И не во Дворце культуры, а в школе.
— А я о факультативах, только и вел речь. Факультатив плюс школьный театр и литературно-творческий кружок.