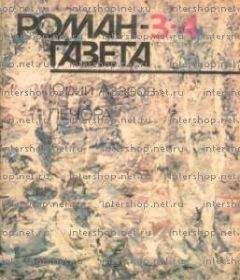— Так сколько вот за Толстого и Тургенева?
— Я же сказал, по номиналу, — твердит он. — Впрочем, в Толстом нет одного тома, здесь округлить можно. А там на столе кое-что из старых изданий. Разрозненные тома…
Я в мешочек складываю книжки, завязываю мешочек, а поднять не могу. Он предлагает во второй раз прийти. Нет-нет, сегодня же, тут недалеко живу. И я бегу с тем мешочком в холодной тишине, и сердце у меня колотится, потому что и Толстой у меня в мешке, и Чехов в мешке, и Пушкин в мешке, и Тургенев, и Писарев, и Роллан — классики углами жесткими в мою спину упираются, а мне радостно от этого, и я осторожно перекатываю мешочек с одного плеча на другое, чтобы не измять уголочки. И моя джинновая душа с особенной силой располагается любовью к классикам, имама уже расставляет книжечки, протирает каждую белой тряпочкой, хотя они и без того чистые, и ровненько ставит на полочки, и говорит мама, что люди ковры покупают, а мы книги, а я снова говорю, что книги для работы нужны, что еще в следующую получку за книгами пойду к Сыр-Бору. Единственно, что мне не нравится, что этот Сыр-Бор на первой и семнадцатой страницах свой именной штамп поставил: «Из книг С. Б. Тарабрина». Будь ты неладен, Тарабрин. Я всю жизнь с твоим штампом буду жить, точно не книги, а душу мою ты проштамповал.
Я тороплюсь с работы домой, чтобы просто так корешки потрогать, вытащить какую-нибудь книжицу, прочитать кусочек, в примечания заглянуть, страсть как любил всегда примечания читать.
А потом ложусь и три-четыре книги с полочки достаю для просмотра, а иной раз и оторваться не могу от книги, и так до утра. И это счастье сидит во мне, и когда я к ученикам иду, и когда по морозу тороплюсь и думаю: как только новую зарплату получу, сразу за новыми книгами сбегаю, прямо не заходя домой, чтобы маму не расстраивать.
Тарабрин встречает меня ласково. В его квартире всегда полумрак, хотя лампочек навешано по всем потолкам и стенам. Мне Сыр-Бор книжечки новые показывает, редкостные, а я глаз не свожу с полочки, где Достоевский стоит. И я подхожу к той полочке, и не желаю я смотреть редкостную «Историю кавалергардского полка», заказанную от имени его императорского величества и в лучшей типографии отпечатанную, и гравюры на стали в той истории, а меня сроду гравюры не трогали — всегда жаль было мне времени Дюрера и Рембрандта, которые гравюры выцарапывали, и что находят искусствоведы в этих гравюрах, лица точно отпечатки пальцев, помню у Киплинга, в «Мери Глостер»: «Он гравюры любил: тлен» и я ухожу бочком от Сыр-Бора, и к заветной полочке подкрадываюсь, и вытаскиваю том; конечно же, «Неточка Незванова» и «Записки из мертвого дома» — мои любимые, а Сыр-Бор говорит:
— Бра зажгите…
А я не знаю этого слова. Я понимаю, что о лампочках речь идет, и мне стыдно оттого, что я не знаю что значит это краткое словцо, и я топчусь на месте, пока Сыр-Бор не подходит и не нажимает кнопочку, и свет вспыхивает, и я бы что угодно отдал, какой угодно номинал бы заплатил, чтобы заполучить хотя бы один томик Достоевского, а Сыр-Бор, какое счастье, говорит:
— Могу уступить…
И все девять томов, десятого не оказалось: зачитал кто-то. Но мне даже лучше: не любил я никогда «Идиота», и я, ошеломленный, в мешочек, в котором мама когда-то деревянные обрезочки с домостроительного комбината носила, запихиваю, а Сыр-Бор другую книгу вытаскивает:
— Всего сто экземпляров этой книги. Фамильная книга (издана в Казани) Слепцовых-Мартыновых. Мартынов, который Лермонтова убил.
Я смотрю на фотографию Мартынова, седого, с двумя подбородочками, читаю: «Провидение руководило мной», поражаюсь: умер он не то в 1896-м, не то в 1898 году, говорю:
— Убийцы — долго всегда живут.
— Как-как? — спрашивает Сыр-Бор.
— Да это я про себя, — бормочу я и неожиданно для себя: — А где вы эти книжечки взяли? — Взъелось что-то во мне и против Тарабрина, и против Мартынова.
Лермонтов в те годы был моим кумиром. Это теперь Лермонтова подзабыли, а тогда я почти всего «Печорина» знал наизусть, стихи не знал, а проза сама в мозги лезла, страницами целыми. А Сыр-Бор поверх очков на меня смотрит, точно соображает, что я знаю о нём. А мне известны какие-то слухи, которые меня меньше всего интересуют. Слухи о том, что он книжечки у ссыльных за бесценок, за корку хлеба менял, потому что в должности был хорошей. А может, это слухи просто, кто знает, как эти книжечки о кавалергардах и о роде Слепцовых-Мартыновых к нему, сосланному, попали.
— Это моя личная библиотека, — сказал Тарабрин. — Личная.
— Как корешки светятся, — говорю я рассеянно. — Переплётики самодельные. Кожаные.
— Это о расколе русском. О патриархе Никоне, о протопопе Аввакуме, царе тишайшем Алексее Михайловиче.
— Сжёг он Аввакума.
— Не он сжёг.
— А это что такое?
— Две книги одного и того же автора, О Макиавелли и Савонароле.
— Между ними есть что-то общее.
— Между кем и кем?
— Ну, хотя бы между Савонаролой и Аввакумом, Макиавелли и Алексеем Михайловичем…
Тарабрин приподнял очки ипосмотрел на меня:
— Специально занимались?
— Занимался. Я разрабатываю синтетический школьный курс, знаете, чтобы через литературу, историю, живопись раскрыть детям основные вехи исторического развития.
— Так-так… И что же вы нашли в Алексее Михайловиче?
— Западник. Не Иван Грозный со своей опричниной создал государство, а Алексей Михайлович. Создал страну с сетью шпионов, пытками и тайными доносами.
— И что же общего с Макиавелли?
— А вы возьмите его «Государя» да сравните с тишайшим царем. Точь-в-точь.
Лицо Тарабрина просветлело. Он сел в кресло. Задумался.
— Все это не совсем так, — сказал он. — Если уж противопоставлять Савонаролу, то не Макиавелли, а Родриго Борджиа, папе Александру Шестому.
— Это чисто внешнее противопоставление.
— Это так кажется. Если хотите, именно Борджиа были идеологами, а не Макиавелли. Борджиа творили новые государства. Макиавелли лишь историк, летописец.
— Положим, не так это.
— То, что он был секретарем флорентийского Совета, это еще ничего не значит. Клерк на службе Борджиа.
Я проникался все большим уважением к Сыр-Бору.
— Вы специально этим периодом занимались?
Сыр-Бор не ответил. Позднее я узнал, что он заведовал (до ссылки) каким-то сектором или отделом истории.
— И что же, между Савонаролой и Аввакумом тоже нет сходства?
— Скорее различия. Савонарола создал флорентийскую демократию. Он повлиял на развитие Ренессанса. К сожалению, этого не случилось с протопопом Аввакумом.
— А вот здесь я не согласен. Не будь Аввакума — не было бы и Достоевского, и Толстого. Аввакум не только превосходный писатель. Он еще и праведник. Праведничество — главное звено русской культуры. Об этом я хочу детям рассказать.
— И как вы это мыслите сделать?
— Я вместе с детьми проведу исследование европейской и отечественной культуры. Понять, каким путем шли представители искусства, царедворцы, народ, — это необыкновенно интересно.
— И вы начали с Ренессанса?
— Этот период меня захватил. И, еще. Вот эта связь европейского и исконно русского. — Любопытно, — сказал Тарабрин.
— Могу вам предложить и такую книжечку. — Он передал мне томик Макиавелли.
— Сколько? — говорю я.
— Не продаю, — ответил Тарабрин. — Могу дать почитать.
Я благодарю Тарабрина. Складываю книжечки в мешочек. Не терпится мне мои собственные, родные. все девять томов Достоевского полистать, в примечаниях порыться.
И я бегу домой, и лампочка большая у нас на двести ватт, мама всегда большой свет любила, и я лежу. «Неточку Незванову» пролистываю, а мама мне новый галстук шьет. За машинкой швейной она так спокойна: очки съехали на кончик носа, красная крапинка на щеке — это родинка, а на нижней губе ниточка повисла — это у нее постоянно, когда нитку в иголку вдевает, откусывает кончик, чтобы ниточка острее становилась. Мама руками скользит по материи, я вижу краешком глаза, что получится на сей раз нечто необыкновенное. У мамы поразительное чутье цвета. Надо же такое сочинить. Темно-фиолетовый крепдешин, тонкий, искрящийся, положен на красную фланель, и эта фланель красная сквозь прозрачность крепдешина высвечивается; с одной стороны — темная фиолетовость проступает, а с другой — посмотришь — алость пробивается в темноте: вот какой необычный галстук должен был получиться у мамы. А потом еще нитками едва заметные кружочки будут прочерчены, в тон, разумеется, и плотность галстука совсем достаточная, чтобы любой узел завязать можно было. Этот ало поблескивающий темной шероховатостью галстук мягко вписывается в кремовую гладь манишки из тончайшего шелка, которую мама тоже сшила. Кремовость получилась после стирки, а раньше шелк был цвета белой розы, ароматная влажность шла от него, и фактура шелка четко обозначилась оттого, что под шелком тем белизна батиста вдвое сложена — чтобы воротник не загибался в уголках, а так ровно, будто мастихином — одним ударом проведена угловая плоскость. Манишки — это тоже чародейные фокусы моей мамы. Полметра материи требовалось на манишку: воротник и грудь — самое главное в манишке, а спинка из любой простынной ткани. Манишка на резинке в поясе под брюки уходила, так что не определить — рубашка была или те несколько сантиметров дорогой ароматности. А если еще пуловер сверху под пиджак, то совсем новая изысканность получалась. И от этой изысканности весь мой вид облагораживался, и темно-серый костюм смотрелся, и даже ботинки, теперь совсем новенькие, недавно купленные, таких тоже не носил, хоть и на два номера больше оказались, зато самые современные, с каблуком, будто антрацитом поблескивающим. Мама внушает: каблук и воротник — главные детали в мужской одежде. А потом уже идут борта пиджака, чтобы заполнена грудь была, не очень выпукло и не очень впало, а так, средне, овально, мягко съезжало, потому она мне и вытачку углубила, идущую к карману. Насчет карманов у нас с мамой постоянная война. Нельзя всякий раз совать руки в карманы, говорит мама, Это некрасиво. А я машинально в школе сую руки в карманы пиджака. Руки у меня всегда а мелу. Постоянно мелом что-нибудь да писал на доске: даты, древа жизни, схемы произведений и т. д. От мела и карманы были белыми. Мама едва не плачет, глядя на белые пятна. Она смачивает марлевую тряпочку, пожелтевшую от утюга, и точно наждаком стирает эти бело-меловые вкрапления, а потом утюгом, не электрическим — она не любит электрический, а чугунным, огромным, чтобы тяжести было побольше, вдавливает лацканы карманов, отчего квадратики под ними остаются ровненькие, и мне жаль до поры до времени нарушать эту ровность, пока не забудусь, и мама каждый раз, вдавливая чугунный треугольник в карманы, приговаривает: