Элен повернулась снова к столу и, передернув плечами, набросила на них жакет. Ей стало холодно, и она вдруг почувствовала себя опустошенной. За ее спиной растаяли голоса поднимавшихся на холм. Полька топталась возле нее с метелкой и хрипло, с характерным для поляков сопением дыша, бормотала:
— Этот ребенок уже испорчен, миссис Элен. И вы, и он ужас как ее портите. Надо бы вам поостеречься.
— Да.
— Вот вырастет, и много будет с ней хлопот. У меня их пятеро, так почитай каждый день они получают по попе.
— Да.
— И у меня с ними никаких забот.
— Никаких.
— А она у вас славная девочка. Красивая. У вас красивая дочка, миссис Элен. Я люблю детей.
«Да ведь не я, не я балую ее!» Но то, что Элен чувствовала прежде — разочарование, горечь, называйте это как хотите, — прошло. Она допила остаток кофе. Внезапно ей захотелось снова очутиться в Виргинии, но и это чувство исчезло. «Как глупо, — думала она, — как глупо воображать, будто… Как глупо. Ох, до чего же глупо и абсурдно. Да ведь всего лишь прошлой ночью она залезла ко мне в постель… „Мама, — сказала она, — ты меня любишь?“ И я сказала, и она сказала… ох как же это глупо, эгоистично».
«Моди. Ну конечно».
Элен вскочила, пролив сливки; прошла мимо родственницы, срезавшей тюльпаны в саду; заспешила по дому с предчувствием, которое она не отрицала, да и не могла отрицать, но скорее им наслаждалась; взбежала по накрытой ковром лестнице в алчном ожидании, словно ребенок в Рождество, и затем, приостановившись, потихоньку, на цыпочках, пошла на затененную застекленную террасу, где одиноко сидела Моди, положив на табуретку свою ногу в ортопедических скобах. Элен сжала девочку в объятиях.
— Ну вот, ну вот, Моди, — прошептала Элен. — Мама пришла. Вот и я, Модичка.
«Мой первенец, моя дорогая». Она села рядом с девочкой, и скоро чувство удовлетворенности окутало ее теплым пламенем любви. Она ощущала себя миролюбивой и юной, очень сильной, словно могла и дальше становиться матерью. Ей было двадцать четыре года.
Она засыпала. Смутно почувствовала холодный пот на щеке, снова услышала неприятный стрекот саранчи, предвещающий дождь, голос, говоривший:
— Помните, Элен, помните, когда мы жили в Уилсон-корт? В квартире? Помните свист — как он будил нас? Помните, Элен, когда появились Пейтон и Моди, как там стало тесно? Помните, как было жарко… Помните? — Он снова глотнул виски, опустошая стакан. — И помните…
Вспомнить. Ох, вспомнить. Как вспомнить мгновения забытого времени? Где теперь дорога, недоумевала она, сквозь этот темный раскинувшийся лес? Листва, саранча, в просвете солнце — все это она знала, все с годами улетело. А теперь тишина царит там, куда не падает свет, и она потеряла дорогу. Богатая. Бедная. Они были тогда бедными — до смерти матери, до того как получили наследство. Они любили друг друга. Не столько из-за бедности, а потому, что оба были еще молоды и им не надо было что-то из себя корчить. Квартира примыкала к стене судостроительной верфи; зимними утрами холодный голубой туман, поднимавшийся с реки, окутывал изящной дымкой фонари на улице, а в доме, в теплой постели, слыша, как по коридорам ходят люди, они чувствовали себя уверенно, собственниками — такая жизнь со всем, что им дорого, могла длиться вечно. Они тогда поздно вставали. Летом Моди плакала. («Что не так с малышкой? — говорил он. — Не должна она так реветь».) Что с ней? Что с ней? На верфи раздавался гудок — страшный рев — и будил их. Прочь простыни. В летние ночи у него были такие длинные и белые ноги, слегка влажные от пота. «О-о, моя милая, — говорил он ей. — О-о, любовь моя».
Сейчас, подремывая, она вспоминает, как гудел гудок. Он связан с пространством, временем, сонными летними вечерами много лет назад — печальный вой, вызывающий в памяти сон, воспоминания и, так или иначе, любовь. Они ссорились летними ночами, потому что было жарко, и Моди плакала, и холодильник капал, и раздавался гудок. Но они любили друг друга, а гудок — сейчас он связан со сном и темнотой, с тем, что было давно, — дикий одинокий гудок, словно голос любви, пересекал темную комнату и, мягко завывая, уходил из сферы звука и из слуха.
— О-о, какие то были дни. И помните, как Пейтон… О-о… — И умолкал с испуганным страдальческим лицом, словно его рука попала в огонь и он только что почувствовал боль. Губы его дрожали.
«Сейчас он заплачет, — сказала она себе, — он заплачет».
— Пейтон.
Вот сейчас он это почувствовал. Ах, горе налетает как ветер. Он снова уткнулся головой в руки.
— Маленькая моя девочка.
Да, возможно, теперь перевернется эта чаша неизмеримой любви к себе, с какой он родился, однако менее сильной, чем тяга к греху…
— Маленькая моя девочка.
Придя в смятение в эту минуту скорби и позора, он обнаружил, что предмета гордости, который он мог бы прижать к сердцу, не было, а было лишь горе. Только горе.
Он встал с кресла и, пошатываясь, с протянутыми руками направился к Элен. Он с трудом передвигался. Седые волосы были растрепаны и взъерошены.
— Лапочка, — произнес он, — ох, лапочка. Отнесемся друг к другу по-доброму. Сейчас. Отнесемся по-доброму. Разрешите мне сегодня остаться здесь.
Она молча поднялась и направилась к лестнице.
— Лапочка, разрешите мне остаться. Просто разрешите остаться.
Она, не откликнувшись, вышла из комнаты и стала подниматься по лестнице.
— Вы не позвоните за меня мистеру Касперу? — сказал он. — Я не могу. Вы не позвоните за меня? Я просто не знаю, что ему сказать. — На минуту воцарилось молчание. — Лапочка, разрешите мне остаться. Даже если считаете, что это ваш дом… Да, — пробормотал он, — даже если считаете, что это ваш дом.
На какой-то миг, словно возникший в памяти музыкальный мотив, эти обрывочные, нетерпеливо произнесенные слова заставили ее осознать всю глубину отчаяния, какого она никогда в жизни прежде не чувствовала. Словно благодаря всего лишь этим словам ей открылась природа их совместной жизни, в этот момент она почувствовала то, чего годы не чувствовала, — насколько он близок ей. Глаза ее наполнились слезами, и она выпалила:
— Да оставайтесь, продолжайте в своем духе и оставайтесь, если хотите! — Взбежала вверх по лестнице и, остановившись в растерянности наверху, хрипло крикнула вниз: — Оставайтесь, если хотите! — И бросилась к себе в комнату, беспомощно рыдая незнакомыми ей слезами, а снизу голос прокричал:
— Элен, лапочка! Элен! Элен!
Она пробудилась — веточки остролиста тихонько царапали по стеклу окна.
«Ох, да возьми же меня сейчас».
Она заснула.
С залива подул бриз. Над станцией полетели большие тучи пыли цвета раскаленного железа — время от времени под порывом ветра они взмывали ввысь. В вышине тучи разделялись, распространяясь по небу этакой прозрачной пеленой ржавого цвета. Сквозь эту пелену слабо просвечивало солнце, освещая все внизу — станцию, людей и все вообще — медным светом, превращая пейзаж — как на картинах Тернера — в нечто смутное и не имеющее горизонта, где даже движущиеся объекты находились в как бы подвешенном состоянии, словно мухи, застывшие в янтаре. Внутренность лимузина, в котором сидел сейчас Лофтис, была обтянута голубоватой тканью, напоминавшей цветом синяк. Перед ним было складное сиденье, тоже обтянутое материей такого же безрадостного цвета, — на нем лежала его нога, которой он отбивал такт мелодии, доносившейся из ресторана через улицу. Жалобный голос из музыкального ящика, нежный и страдающий, пел вдалеке:
Ты знаешь, что ты волен уйти, дорогой,
Не волнуйся, если я заплачу…
И Лофтис, стремясь прежде всего забыть о своей страшной боли, пытался разобрать слова, распевая их тоненьким фальцетом. Мимо окна, которое он закрыл от пыли, проплыла дурацкая женская шляпа с розовыми матерчатыми цветами на вуали; затем появилась и сама женщина в зеркале заднего вида — крупная, медлительная, в дешевой пестрой одежде; полными загорелыми руками она ограждала себя от пыли, точно от снега или дождя со снегом, и послышался голос женщины, тихо причитавший:
— Батеньки, батеньки, ну и стыдоба.
А следом за ней шел Барклей с ведром воды. Глядя на него, Лофтис почувствовал приступ тошноты. Голова у него тупо болела от выпитого накануне вечером виски. Он выскочил за дверь и пошел вслед за Барклеем в направлении катафалка, слегка задыхаясь от пыли.
— Эй! Сынок! Сынок!
Парень, стоявший у капота катафалка, повернулся и замер в недоумении.
— Эй, сынок!
— Да, сэр? — произнес Барклей. Это был бледный тощий парень лет девятнадцати. Прыщавый, с робким пушком поросли над верхней губой, он стоял, таращась в удивлении на устремившегося к нему тяжело дышавшего Лофтиса.
— А-а, вот… Это ведь… — И Лофтис запнулся.
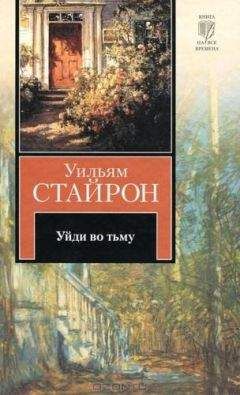



![Ричард Адамс - Обитатели холмов [издание 2011 г.]](https://cdn.my-library.info/books/49785/49785.jpg)
