Парень молчал. Хотя он и был ни при чем, но боялся, что ему поставят в вину лопнувшую трубу радиатора. А он все утро волновался: угодит хозяину или нет, — каким покажется его новый черный костюм. Он был добросовестным, и честным, и добропорядочным молодым человеком, от природы склонным волноваться. Сложности жизни и то, что он стал гробовщиком, давили на него и представлялись несправедливыми; это его тоже тревожило. Утро принесло ему одни бесконечные заботы. Он чувствовал, что мистер Каспер уволит его, и, волнуясь по этому поводу, едва замечал Лофтиса, хотя и знал теперь, что стоявший перед ним человек — ближайший родственник останков, за которыми он сюда приехал.
— Да, сэр? — нерешительно повторил он.
На лице Лофтиса мелькнула слабая улыбка.
— М-м… что-то случилось?
Парень смущенно улыбнулся в ответ:
— Угу… Да, сэр. Правда, теперь уже все в порядке. — Он повернулся к мотору и открыл капот. — Трубка тут… — «Бедняга, — подумал он, — горе-то какое на него свалилось».
Лофтис заглянул через его плечо.
— Знаешь, эти паккардовские моторы странные какие-то, — услышал его Барклей. — Действительно странные. У меня в тридцать шестом был однажды «паккард». Теперь я люблю «паккарды» — у меня теперь «олдс», — я люблю «паккарды», они о’кей. Но мне пришлось чертовски туго с механизмом подачи. Я, по-моему, пять раз возил ту машину к Притчарду, прежде чем ее выправили.
— Да, сэр, — сказал Барклей. Он наливал воду в радиатор, высоко держа канистру, чуть не задевая локтем лицо Лофтиса.
— А «олдс» мне нравится из-за своего механического хода — точно скользит по воде. Ну-ка дай я тебе помогу. — Он взял канистру и оттеснил Барклея. — Я повыше тебя, — сказал он с легким смешком.
Вода стала выплескиваться на мотор, и Барклей подумал: «Черт, надо сходить принести еще».
— Есть люди, которые не любят чересчур быструю езду. А я люблю. Пикапы ездят медленнее — это правда. Но когда ездишь по городу столько, сколько я, то важнее скорость. — Он поставил на землю канистру. — Моя дочка вечно приставала ко мне, чтобы я купил машину с откидывающимся верхом, — ей всегда хотелось иметь такой «паккард». Я хочу сказать: для себя. Ты знаешь, как молодежь с ума сходит по машинам. — Он посмотрел на Барклея. — Сколько тебе лет — двадцать? Моя дочь была на несколько лет старше тебя, ей было… — Он взглянул на свои руки. — У тебя есть что-нибудь, чем я мог бы вытереть руки?
Барклей протянул ему тряпку, подумав: «Бедняга». Он видел, как дрожали руки Лофтиса, словно у парализованного, когда он усиленно вытирал их.
«Бедняга!» — подумал Барклей, недоумевая: что может сказать мистер Каспер, чтобы ему стало лучше?
Тут Лофтис перестал тереть руки, бесцельно посмотрел вокруг, словно решая отправиться в город. В лице его не было ни боли, ни страха. «Лицо у него, — растерянно подумал Барклей, — совсем ничего не выражает». Он стоял так, зажав тряпку в руке, лицо в каплях пота спокойное, как у дьякона. «Я должен был бы сказать, — подумал парень, — я, наверное, должен был бы сказать…» Но кожа у Лофтиса вдруг стала белой как мел, невероятно белой — такой, подумал Барклей, она не бывает даже у трупа, не то что у живого человека, — лицо по-прежнему спокойное, ничего не выражающее, но бесцветное, словно на нем никогда и не было красок, и на глазах у растерявшегося Барклея сухие бескровные губы вдруг зашевелились и произнесли:
— Мне плохо.
Лофтис больше ничего не сказал. Сознавая лишь, что вокруг него что-то происходит: передвигаются люди, несмотря на пыль, звучат удивленные голоса, словно голоса детей, попавших под внезапно хлынувший дождь, — он стоял, небрежно положив руку на крыло машины, а другой продолжая сжимать тряпку. Затем не спеша, словно сомнамбула, выпустил тряпку из руки и пошел, преодолевая пыль. Переходя через улицу, он подумал: «Я не должен здесь блевать. Надо дойти до такого места, где можно проблеваться…» Борясь с тошнотой, жаркими волнами поднимавшейся из желудка, и зайдя в полупустой ресторан, он прошел мимо молчавшего музыкального автомата, мигавшего калейдоскопом цветов — красным, синим, зеленым, и очутился в грязном туалете, где, согнувшись над нечищеным унитазом, стал спазматически выбрасывать из себя все, что мог.
Затем он вышел из туалета и сел на табурет в конце стойки, откуда ему виден был лимузин, — его все еще трясло, но он чувствовал себя уже лучше, поскольку тошнота проходила, и думал: «Я должен взять себя в руки. Я должен быть мужчиной». Таксист, евший в другом конце стойки, поднялся, расплатился и вышел со словами: «До скорой, Хейзел». Лофтис тупо наблюдал за ним в засиженное мухами окно: он прогуливался, посасывая зубочистку, лениво, инертно, с небрежной легкой непринужденностью поглядывая вокруг, — вылитый шофер такси к югу от Потомака. Затем он исчез, скрывшись за рамой окна. И Лофтис, озираясь с отсутствующим видом, обнаружил, что тут никого нет, кроме Хейзел.
— Хайя, что ж это творится-то? — сказала женщина. — Пылища ужас какая.
— Кофе, — сказал он.
— Послушайте, а вид-то у вас совсем больной, — сказала она. — Должно быть, вчера вечером высосали цельник.
Она вернулась к кофейнику. В помещении стоял знакомый кислый запах — не запах чистоты, но и не грязи, — запах жира, застоявшихся помоев, раскисших несъедобных кулинарных изделий, выпеченных много дней назад. Лофтис почувствовал спазм в желудке и подумал, что его сейчас вырвет, да его и вырвало бы, если бы этого с ним уже не произошло. Он решил уйти и уже приподнялся с табурета, но тут женщина вернулась с кофе, говоря:
— Я видела, как вы только что бежали в мужской туалет. Я решила, что вас, наверное, стошнило.
Он, ничего не говоря, стал пить кофе.
— Послушайте, да вас трясет. Надо вам что-нибудь принять.
Он ничего не сказал, думая: «Если я продержусь этот день, может, все и уладится. Я буду в полном порядке, прежде чем ты выйдешь замуж, — время все лечит, должно…»
— Я сказала Хейвусу — это таксист, который только что вышел, — я сказала ему, что вид у вас бледноватый. Я-то сама не пью, хоть и всегда говорю, пользуясь старой поговоркой: что хорошо для гусака, то хорошо и для гусыни…
«И Элен. Я верну ее, вылечу, она выздоровеет, я скажу ей, что наша любовь никогда не исчезала».
— …Господь знает: женщина несет такой груз, что ей иногда тоже хочется пропустить стаканчик. Собственно…
А он думал: «Успокойся, просто помолчи, успокойся», — зная, что в другое время сам завел бы разговор на любую тему, которая может представлять интерес: о погоде, ценах, даже о боге баптистов, — о чем угодно, лишь бы говорить. Будучи юристом, он ощущал потребность в контакте с людьми, а главное, хотел чувствовать, что его воспринимают и те люди, с которыми он ощущает себя не в своей тарелке. Имея дело — пусть самое пустячное — с людьми, чье социальное положение было ощутимо ниже его собственного, он терялся, чувствуя свою вину, но не доверяя им. Прачки, садовники, негры-поденщики, появлявшиеся у его задней двери с умоляющей улыбкой и просьбой пожертвовать старые вещи, — все они вызывали у него легкое смятение. Но уже давно, сознательно предприняв усилия, перешедшие в привычку, он обнаружил, что может избавиться от чувства неловкости, просто разговаривая с людьми. И он разговаривал, всегда первым затевая беседу даже на дико абсурдные темы, — не только потому, что хотел всем нравиться, хотя это было правдой, но и потому, что ему нравилось говорить, потому что ему нравились округлые фразы и потому что боялся одиночества.
Но сейчас эта женщина привела его в смятение, наполнила отчаянием, и он вдруг испугался, поскольку не понял ни слова из того, что она сказала. Казалось, это она была в смятении и страдала от пыли и тошноты — признака всего, что досаждает человеку, когда он больше всего нуждается в мире и покое. Это была высокая тощая блондинка лет сорока, с лицом землистого цвета, выпученными глазами и грубыми, мужскими чертами. Она стояла, небрежно прислонясь к застекленному стенду, полному бритвенных лезвий и завалявшихся сигар, поглядывала отсутствующим взглядом в окно, безостановочно болтая — пронзительно и без вдохновения, словно ей было безразлично, согласится ли кто-либо с ней и слушает ли ее сейчас Лофтис или, раньше, тот отзывчивый, никого не слушающий хор таксистов и железнодорожников, которые, налетая каждый полдень словно мухи, рассеянно мычали что-то между глотками пива ей в ответ, сидя по другую сторону стойки, где стоял гул их праздного разговора.
— Нет, — говорила она, — я лично ничего не имею против выпивки и, говорю вам, не понимаю, почему женщина тоже не может выпить, и ведь известно, что доктора часто прописывают токсины при определенных неполадках, и, ох, у моей невестки было хроническое заболевание матки, так что пришлось ее удалять, и доктор прописал ей пить виски каждый вечер перед сном…
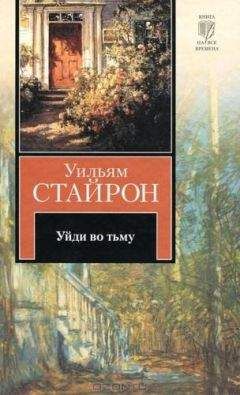



![Ричард Адамс - Обитатели холмов [издание 2011 г.]](https://cdn.my-library.info/books/49785/49785.jpg)
