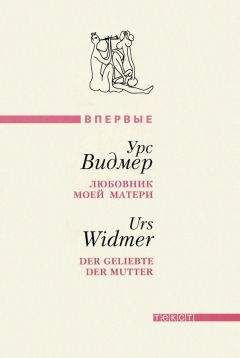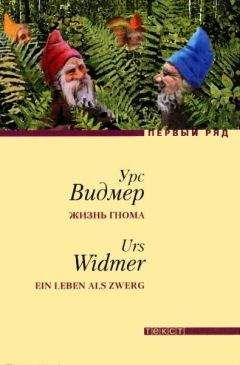Последующие недели, даже месяцы, мать была занята тем, чтобы разобрать все в доме — поднять упавшую пальму и вымыть посуду от последнего завтрака, изучить и проверить книги, в которые отец аккуратным почерком записывал все доходы и расходы, найти и привести в порядок ценные бумаги, выяснить, с какими банками был связан отец, сходить в ведомство, занимающееся наследством, поговорить с директором машиностроительного завода о финансовой стороне, связанной со смертью отца — его договор не предусматривал посмертных выплат, позаботиться о незакрытых счетах. Долгов у отца, разумеется, не было. Как у человека совестливого. И тем не менее еще не были оплачены новые покрышки для «фиата» и, кроме того, сорок восемь бутылок «Мутон Ротшильд», готовых к употреблению, урожая 1919 года. Отец в первый раз нарушил верность своей родине. К тому же был еще и оркестр. В это время в городе как раз проходили Дни Моцарта, и «Молодой оркестр» рискнул вступить в новую для себя область и играл бывшие до сих пор неизвестными — по крайней мере в городе — произведения, такие, как KV 134, KV 320е и KV 611. Все это исполнялось впервые. (Позднее Эдвин будет дирижировать еще одним прежде неизвестным в городе произведением, «Идоменей», в концертном исполнении, с Лизой Делла Каза, Эрнстом Хэфлингером и Паулем Шандосом. Но это было позже, значительно позже, и стало одним из триумфальных выступлений оркестра. Эдвин к тому времени превратился в специалиста по Моцарту. Правда, в своих концертах он по-прежнему избегал слишком известных произведений. Никаких симфонии «Юпитер», KV 491 или увертюры к «Фигаро». Симфонию соль минор он тоже никогда не включал в свою программу. Но полюбил ее с такой силой, что приобрел оригинал партитуры еще до того, как сколотил свой первый миллиард. Невероятная удача, уникальная возможность, дорогое удовольствие.) Итак, мать носилась повсюду, проверяла перед репетициями, работает ли отопление и не шумит ли оно, сдвигала стулья на нужные места, ставила чай и все прочее. Это было напряженное время, и не хватало совсем чуть-чуть, чтобы оно стало временем прекрасным. Много суеты, много аплодисментов, много новых людей. Юный Рудольф Серкин играл два ранних фортепьянных концерта, KV 175 и KV 246. Мать была как во сне, смотрела, не видя, слушала, не слыша, и чувствовала, не ощущая ничего. Когда она закончила просматривать бумаги, переговорила со всеми представителями отцовских банков, сидя за отцовским столом, сложила, и еще раз сложила все цифры, и заново сложила их, ее охватил такой ужас, что она вскочила и распахнула окно. Часто хватала ртом холодный осенний воздух и через десяток-другой вздохов поняла. Она стала бедной. У нее нет больше денег, нисколечко нет. Ей двадцать четыре года, она ничему не училась, она красива и никогда еще не знала нужды. На счету оставался еще последний оклад отца. Ценные бумаги — «Форд», «Микеникал айрон», «Уайт сьюинг машин» и прочие таких же абсолютно надежных фирм — обесценились. Правда, у нее еще оставались автомобиль и дом. Но «фиат» был уже отнюдь не новым, и ей еще повезло, что приятель отца купил его за тысячу пятьсот франков. С домом дела обстояли еще хуже. Вскоре она отметила, что дома покупают всего несколько агентств по недвижимости — из-за упавших до земли цен, — а все остальные, как и она, остались без денег. На доме оставалась ипотека в 150 000 франков, и ровно столько же предложил ей один из владельцев бюро «Сарацин, Сарацин & Роша»! Сто пятьдесят тысяч минус сто пятьдесят тысяч равнялось нулю. Она подарила дом, потому что не смогла бы заплатить за него проценты. Все это время она почти не видела Эдвина. Почему, она и сама не знала, встречала его разве что несколько раз в бюро, на репетициях, а больше нигде. Ей приходилось думать о стольких вещах, что об Эдвине она не думала, почти нет, да, собственно, никогда не думала. Однажды она видела его во сне, а может быть, не его, а своего отца. Он был огромной лошадью и бил ногой, но не попадал по ней. Несмотря на это, она бежала оттуда прочь, как будто за ней гнались, поскользнулась на обледеневшем поле, ее тащило и тащило по льду, и вот она проваливается, пытаясь зацепиться за гладкий лед, в огромную прорубь, вроде тех, что вырубают эскимосы, когда охотятся на тюленей. Она погрузилась в голубую воду. Высоко над собой она видела через полынью склонившегося к ней Эдвина. Погружаясь в глубь, она протянула к нему руку. Он не шелохнулся Она проснулась и опять задрожала. В тот день, когда моя мать подарила дом одному из господ Сарацинов, она нашла Эдвина в бюро. Он едва с ней поздоровался, копаясь в картотеке абонентов. Она села за свой стол и сказала: «Мне нужна комната. Какая-нибудь подешевле». Эдвин поднял голову и сказал: «Моя как раз освобождается».
— Твоя комната?!
— Я тут подсчитал как-то. За Моцарта я получу от города очень приличный гонорар. Потом у меня до конца года будет пять приглашенных дирижеров. Я снял квартиру у реки. Три комнаты, с балкона воду видно. Очень красиво, вот увидишь.
Мать сглотнула. Она неподвижно смотрела на оттиск афиши следующего концерта, и буквы плясали у нее перед глазами. Потом сказала:
— Я беру комнату.
Так что наступил май, цветущая весна, пока мать смогла выполнить обещание навестить тетю и всех прочих родственников. Правда, дождь лил ручьями, когда она шла к вокзалу со своим в наследство полученным кожаным чемоданчиком, оклеенным этикетками отелей, вроде «Сувретта» или «Даниэли». Она ехала третьим классом. Дождь еще усилился, когда она делала пересадку в Берне, и разразился настоящий потоп, пока она сидела в станционном буфете в Бриге и ждала поезда на Домодоссолу. Он состоял из крошечного паровозика, скорее пышущей паром дрезины, и двух вагонов итальянской государственной железной дороги с отдельной дверью с улицы в каждое купе. Билеты проверили на вокзале, во время посадки. Проводник невозмутимо наблюдал, как несколько пассажиров пробиваются к поезду сквозь разверзшиеся хляби небесные. В купе мать, промокшая до нитки, оказалась вместе с таким же промокшим священником, который сначала делал вид, что читает Библию, а вскоре уже только дымился из-за жары и промокшего платья — ведь воздух в вагоне был с юга. От одежды матери тоже поднималась легкая дымка. Наконец поезд дернулся и исчез в туннеле. Света не было, только снаружи промелькивали отсветы редких фонарей. Когда они выехали с другой стороны, солнце сияло так ярко, так ослепительно, что матери показалось, будто ее глаза охватило пламя. Облаком, слепым облаком она выбралась на перрон. И хотя видеть она ничего не могла, но чувствовала жар солнечных лучей на коже, вдыхала другой воздух, слышала голос, откуда-то из сияния звавший ее по имени: «Клара!» — фальцетом, как будто кричит тропическая птица. Сквозь пожар лучей она постепенно узнавала второго дядю, карлика в слишком большой куртке, прыгавшего за таможенным шлагбаумом. Она бросилась к нему в объятия. Дядя был так мал и тщедушен, что голова его исчезла у нее на груди, а руки с трудом могли обхватить ее. И все-таки он с такой силой стискивал и прижимал ее к себе, что ей казалось, у нее уже сломаны ребра. «Ahi, zio! Piano, piano!»[12] Маленький дядя отпустил ее, перевел дыхание — он весь был пунцовый, рассмеялся, подхватил чемодан и, изогнувшись под тяжестью чемодана и разговаривая через плечо, не оглядываясь, пошел к новехонькому грузовику-«фиату», на брезенте которого были нарисованы два льва, стоявших на задних лапах и державших в передних голубку. Мать села рядом с дядей, который едва мог дотянуться до руля и сидел на подушке, и они покатили по пустынной улице, на которой один только священник с нимбом пара вокруг головы направлялся в сторону церкви. Дядя все говорил и говорил. Смеялся и беспрерывно говорил. Мать не понимала ни слова и сказала ему об этом. Но дядя произнес те же звуки, что и прежде, только громче. Он снова засмеялся, теперь раскатисто. Пусть болтает, решила мать и стала смотреть в окно. Они ехали меж тополей, фруктовых рощ и все больше сужавшихся отвесных скал справа и слева, дядя смеялся своим шуткам в полном одиночестве, и уже через несколько минут машина остановилась перед домом, похожим на кучу камней, который до такой степени не отличался от скалистых обломков вокруг, что мать не заметила двери, пока дядя не распахнул ее. Так вот откуда родом Ультимо. Хлам, бутылки, рассыпавшиеся бочки, корзины для упаковки бутылок, мотыги, ведра, паутина — стоя на пороге, мать смотрела на все беспомощным взглядом. Света нет, затхлый воздух. Некуда ступить, чтобы войти, так что мать опять повернулась к дяде, который на удивление тихо и неподвижно стоял позади нее. Но он опять зачастил, потащил ее к небольшому холмику, заросшему плющом, рассказывая при этом такую смешную историю, что сам загоготал. Это была могила негра, вот что она поняла. Что же в этом было такого смешного, она уловить не могла, хотя он трижды повторил, перейдя к концу на крик, самую соль. То, что негр умер любя, зачиная в смерти: кто же не пожелает себе такой участи? Рядом с могилой негра была еще одна, и дядя делал вид, что не замечает ее. Дом из кучи камней, очевидно, не был основной целью их поездки — а мать подумала, что весь клан по-прежнему живет там, — нет, маленький дядя развернул грузовик, и они двинулись той же дорогой обратно, сначала под гору, потом по равнине, ехали, ехали все дальше и, наконец, очутились в холмах, на которых стояли церкви и крепости, проделав большую часть пути, который негр прошел в свое время пешком, хотя и в противоположном направлении. Те же деревни, где все еще лаяли собаки! Маисовые поля, такие же, как те, через которые пробирался умирающий! Виноградники. Время от времени встречались даже повозки, запряженные быками! Это было настоящее паломничество. Через два часа, во время которых дядя не умолкал ни на секунду, они так резко свернули с проселочной дороги, так неожиданно, что мать закричала от страха, решив, что они сейчас врежутся в непроходимую чащу ежевики и деревьев. Но там все-таки оказался проезд со следами повозок между зарослей. Ветви деревьев с обеих сторон царапали кузов машины. Листья на лобовом стекле, лианы — они почти ничего не видели. Но потом машина протиснулась через портал из белого камня, римские каменные стены со множеством колонн, меж которыми пышно разрослись кусты, и поплыли — мотор вдруг стал работать беззвучно — среди роз, гиацинтов, шпорника, олеандров, бугенвиллей. Небо стало огромным и синим. Пруды, заросшие белыми лилиями. Жужжали стрекозы, порхали бабочки. Птицы, птицы пели повсюду, и даже иволги и щеглы! Воздух, воздух такой, как в первый день творения. Остановились они перед огромным домом с бесчисленными окнами, дворцом, или скорее, древним монастырем, потому что часть здания была церковью с мощной башней. И вот уже изо всех дверей бросились к ней те самые чудища с курчавыми волосами, выпуклыми губами и кожей, выглядевшей, как обгорелая шкура: тетя, третий дядя, жены дядьев, двоюродные братья и сестры, дети, дети детей, а также все те, кто приезжал на похороны Ультимо, не зная, в родстве ли они с ним или нет. Они тоже бросали шляпы в воздух, как и прислуга, отплясывавшая дикие танцы, которая, казалось, радуется больше самих хозяев. Все они обнимали и целовали мать, каждый многократно. Неожиданно все замолчали — мать стояла на посыпанной галькой земле, голова у нее шла кругом, и она держалась за свой чемодан. Они замерли. Прогремела ли музыка? Во всяком случае, образовался проход, и по нему широким шагом подошел огромный дядя, мощный, сияющий, тоже широко раскрывая объятья. «Добро пожаловать!» — по-немецки! Он высоко поднял мать, дал ей потрепыхаться вместе с ее чемоданом — тут все опять зашумели — и вернул на место только тогда, когда она в отчаянии стала умолять его. Вот это счастье! О, да, это было великолепно. Мать позволила большому дяде отвести ее в дом, безвольно, покорно, преданно. Ей выделили комнату, которая раньше была монашеской кельей. Правда, никакого креста она не увидела. Зато были кровать, комод со старинным фарфором, шкаф и ночной столик, на котором стояла свеча. За окном пылало небо, солнце только что опустилось в дальних виноградниках. Летали ласточки. Трещали цикады. Кошка пробиралась среди олеандров, залитая багровым светом. Позднее все, не меньше двадцати мужчин и женщин, сидели за длинным столом в кухне, огромном сводчатом помещении, полном кастрюль и сковород. Масляные светильники освещали лица, на которых сверкали глаза и зубы. Ее семья! Мать сидела, конечно же, рядом с большим дядей, который вновь и вновь наполнял ее тарелку, как будто она умирала с голоду. По другую сторону от нее сидела жена большого дяди. Она, как и дядя, была огромного роста, но стройной, почти худой. Она носила все черное, хотя никто пока не умер, и произносила странное, царапающее «р», quella erre lombarda[13], которое заставляет смущаться королей из дальних мест, потому что оно говорит, как им еще далеко до подлинного величия и культуры. Напротив матери сидел третий дядя, в котором было что-то от карпа, потому что он непрерывно открывал и закрывал рот. Тетя и жены обоих младших братьев готовили. Огонь вспыхивал, когда они открывали заслонку или подцепляли металлическим крюком конфорку. На стенах шевелились их гигантские тени. Еда была очень вкусной, и таким же превосходным было вино, которое большой дядя наливал из пузатых бутылок без этикетки. Все разговаривали и смеялись, и мать тоже. Много позже, уже около полуночи, дверь распахнулась, и вбежал загорелый молодой человек. В одной руке у него был альпеншток, в другой — букет альпийских роз. Все зашумели, здороваясь, смеясь, восклицая. «Борис! — вскричал большой дядя и вскочил так стремительно, что опрокинул стул. — Мать беспокоилась!» Борис был его сыном. В тот день он поднялся на Чима Бьянка по новому маршруту. Уничтожая полную тарелку поленты с рагу, он с сияющим видом рассказывал о своих приключениях. Камнепады, ледовые склоны, резкая перемена погоды, когда он был на середине отвесной стены! Все внимание было приковано к нему. «Борис!» Это была его мать. «Come sei bravo![14]» Бориса звали Борисом, потому что у большого дяди в свое время была слабость ко всему русскому. Может быть, из-за благородного царя Николая, но скорее потому, что когда-то он знал едва успевшую бежать от палачей последнего повелителя всех россов молодую женщину, которая работала в отеле «Виктория» на кухне и была родом из Санкт-Петербурга. Борис был beau ténébreux[15] и тотчас окунул глаза в глаза матери. Она ответила на его взгляд. Он подарил ей альпийские розы и пообещал в скором времени взять ее с собой на Чима Бьянка. На обычный маршрут. Там они запросто поднимутся на вершину еще до завтрака. Глубокой ночью мать со свечой в руке на ощупь пробралась в монашескую келью и опустилась на кровать, как во сне.