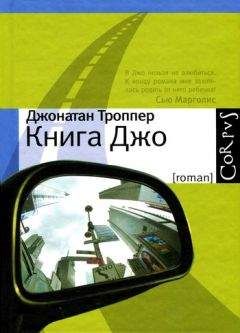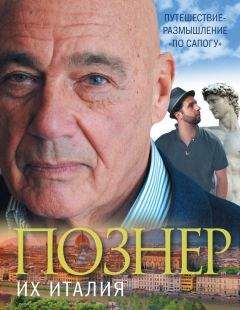Я настойчиво пытался уговорить Уэйна отказаться от стажировки в «Портерс» и пойти со мной работать на фабрику. Языковой и социальный барьеры не позволяли мне общаться с товарищами по цеху — все, что я мог, это просто кивать им при встрече, и мне постоянно казалось, что они насмехаются над хозяйским сынком на своем непонятном наречии. Присутствие Уэйна спасло бы меня и от одиночества, и от жуткой скуки, которую наводила на меня эта работа.
— Спасибо, старик, — ответил он мне по дороге домой в один из последних школьных дней, — но я уже трудоустроен.
— Мы заканчиваем в три, — заметил я.
— Так вы ж встаете черт знает во сколько, — парировал он.
— Зато нам платят больше.
Он закатил глаза:
— Есть вещи поважнее денег.
— Какие, например?
— Кондиционер.
Тут я сдался.
Вечером, вернувшись домой, я застал отца в кабинете — он ел размороженный полуфабрикат и ругался на профессиональных спортсменов в телевизоре: «У него же поле пустое. Боже, ну выведи ты кого-нибудь нормального. На черта тебе там целая орава на скамейке?» Я сказал отцу, что Уэйн не хочет у него работать.
— Ну так спроси кого-нибудь еще, — ответил он.
— Некого больше спросить.
Он отвернулся от телевизора и посмотрел на меня — событие настолько редкое, что впору было бы сопроводить его барабанной дробью.
— У тебя правда нет друзей, кроме Уэйна? — недоверчиво переспросил он. Да уж, папаша у меня — сама чуткость.
— Таких, которые хотели бы работать в пекле, — нету, — ответил я.
— Зарплата-то хорошая.
— Меня убеждать не надо. В конце концов, у меня-то выбора не было.
Казалось, отец готов был ответить, но тут его голова дернулась обратно к телевизору, где кто-то то ли забил, то ли промазал — в общем, очевидно, сделал что-то гораздо более важное, чем его младший отпрыск.
— О'кей, — сказал он, пожав плечами, — если у тебя действительно больше нет друзей…
— Спасибо, что не преминул повторить, — ответил я, но он уже погрузился в свой бейсбольный туман. «Чертовы „Метс“ могут так и в финал выйти!» Я постоял еще немного, чтобы удостовериться, что разговор и вправду закончен, и со вздохом отправился на кухню добывать пропитание.
Впервые я увидел Сэмми в кабинете отца. Выглядел он тогда весьма живописно: коричневая хлопковая жилетка поверх салатовой футболки, легкие серые штаны из магазина «Гэп», закатанные до икр, и черные кожаные мокасины. Сэмми нервно кивал, а отец кривился, глядя на его несуразную фигуру.
— Это Сэмюэл Хабер, — мрачно произнес отец, как будто указывая на досадную бородавку на пальце ноги. — Просится к нам на пресс.
Отец был ростом под метр девяносто, ширококостной польской породы; брови его всегда были сдвинуты, а из-под квадратной челюсти виднелась массивная борцовская шея, мощная, как древесный ствол. Рядом с его нависающей громадой Сэмми казался былинкой.
— Очень приятно, — сказал Сэмми, протягивая руку и крепко пожимая мою. — У меня пока нет друзей, но если бы они были, то звали бы меня Сэмми.
— Я — Джо, — сказал я. Глядя на его худощавую фигуру и детское лицо без всякого намека на щетину, я понял причину отцовского скептицизма. Интересно, подумал я, часто ли он бреется, и бреется ли вообще. — Ты, наверное, не здешний?
— Только что переехал, — ответил он и повернулся к моему отцу: — Ну что, начальник, когда начинать?
Глаза у отца превратились в узкие-преузкие щелки. Он и от собственных-то детей шутливой фамильярности не терпел, а тут какой-то чужой парень. Артур Гофман с трудом общался с неспортивными мальчиками, это я знал по своему печальному опыту, а Сэмми определенно не был атлетом. Он мне сразу понравился.
Отец недовольно хмыкнул.
— Послушай, Сэмюэл, давай-ка начистоту, — сказал он, что обычно означало, что он собирается поставить собеседника на место. — Пресс большой, а ты такой худой и маленький. Сможешь работать — место твое. Но если не справишься, ты мне все производство остановишь, а я этого допустить не могу.
— Ясно, ясно, — отвечал Сэмми, кивая и всем своим видом давая понять, что все осознает. — Не волнуйтесь, это я только с виду хилый.
— Надеюсь.
— Даже не сомневайтесь.
— Смотри, поручни защитные опускай, — продолжил отец, после чего недовольно воззрился на меня: — Покажешь ему защитные поручни и проследишь, чтобы он их опускал, ясно?
Я кивнул, и он снова повернулся к Сэмми:
— Если рука будет на нагревателе, когда пресс опустится, пойдешь домой с культей.
— Все понял, не извольте сомневаться, — ответил Сэмми. — Начальство не любит ампутаций.
А затем, театрально понизив голос, добавил:
— Спасибо за доверие, начальник. Я вас не подведу.
Отец пристально посмотрел на него, пытаясь понять, не пропустил ли он какой шутки.
— Не называй меня начальником.
— Договорились, Артур.
— Мистер Гофман.
— Это как раз был мой третий вариант.
Отец глубоко вздохнул:
— Хорошо, ты принят.
Сэмми ответил:
— Круто.
— «Поручни смотри опускай. — Сэмми удивительно точно изобразил отцовское ворчание, пока я вел его к прессу. — Мы не можем допустить, чтобы из-за отрезанной руки производство стояло!» Господи! Этого типа небось на горшок ходить под дулом пистолета учили!
— Наверное, пора сказать, что это мой отец, — ответил я, не зная, обижаться на него или просто веселиться.
Он остановился и неуверенно посмотрел на меня:
— Ты ведь шутишь?
— К сожалению, нет.
— Какой же я козел, — с чувством произнес он.
Я решил веселиться:
— Да ладно, не бери в голову.
— Нет, правда, я придурок. Иногда мне так хочется произвести впечатление и завоевать друзей, что я веду себя как полный идиот.
— Говорю тебе, все в порядке. Тебе удалось произвести нужное впечатление.
— А теперь, чтобы закрепить впечатление, не скушать ли тебе, детка, собственный ботинок?
— Нет, правда, все нормально.
— А мне правда ужасно неудобно. Наверняка он отличный мужик.
Я пожал плечами:
— На самом деле нет.
Сэмми внимательно посмотрел на меня, а затем, просияв, сказал:
— Ну и ладно, пошел он куда подальше, если шуток не понимает.
Отец Сэмми был преподавателем музыки в Колумбийском университете. Мать развелась с ним из-за его неистребимой привычки спать со студентками — молодыми музыкантшами, особами крайне влюбчивыми, отчего представлявшими собой легкую добычу. Эти и другие подробности из жизни Сэмми стали известны мне в первые несколько дней его работы на прессе. Работая бок о бок по восемь часов в день, мы довольно хорошо узнали друг друга. Сэмми был большим фанатом Спрингстина и запросто мог, стоя у пресса и завидев проходящую эмигрантку, вдруг затянуть какую-нибудь песню, качая головой в такт мелодии и не обращая внимания на то, что женщина отводит взгляд. «Розалита, легче, моя крошка, — мог он завопить без предупреждения. — Кармен, подпевай! Сеньорита, погрей меня немножко». Спрингстин был настоящей страстью Сэмми, и он часто читал мне лекции о глубинном смысле той или иной его песни, с цитатами из оригинала и обширными литературными комментариями. Его чрезвычайно беспокоил недавний коммерческий успех «Рожденного в США».
— Я не говорю, что это плохой альбом, но он ни в какое сравнение не идет с «Приветом из Осбэри-парка» или «Рожденным бежать». А все эти болваны, пляшущие под него на MTV, они же ничего не смыслят. Он поет о судьбе наших воинов-афганцев, а они задницами вертят, как будто это Wham! какой-нибудь или Culture Club.
Он энергично потрясал пальцем в воздухе, подчеркивая важность своих слов:
— Брюс Спрингстин — это вам не Wham!.
Лето 1986 года в Коннектикуте было официально признано худшим за девяносто лет — не лето, а горячая кровоточащая язва. Воздух набух от влаги и запаха плавящегося битума, солнце нещадно палило асфальт и крыши Буш-Фолс. Жилые районы вибрировали от гула сотен кондиционеров, установленных на задних дворах; они работали на полную катушку день и ночь, еще больше нагревая раскаленный воздух. Народ в основном сидел в помещениях, но если нужда заставляла человека выйти на улицу, то двигался он еле-еле, как будто на Земле вдруг во много раз выросла сила тяжести.
На фабрике мы с Сэмми обливались потом, нагреватели добавляли не меньше пяти градусов к невозможной и так духоте. В перерыв мы выходили на улицу, на бетонные ступеньки, ведущие вдоль здания к парковке, и лениво потягивали вишневую колу, пока пот испарялся с нашей кожи.
— А я говорил, что у нас есть бассейн? — спросил он в один из таких перерывов.
Я окинул его тяжелым взглядом:
— Нет, не говорил.