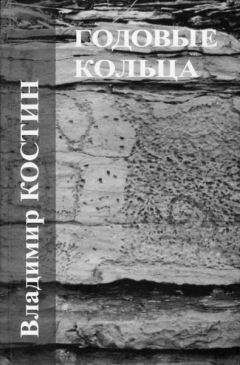И дядя был писателем, ценимым. Увы, после того, как КГБ изъял у него роман и трактат «Экзистенциализм — это гуманизм», у него сохранилось всего два коротких рассказа (на самом деле, это было все, что он выжал из себя, мучимый похмельем и завистью). Рассказы были тухло-грустные, в них ничего не происходило, но Вера всплакнула. Я хочу, чтоб их положили мне в гроб, повторял Выродок.
Дядя развенчал мифологию съездов и демонстраций, от пролога до эпилога. Когда очередь дошла до А. М. Коллонтай, Вера обмерла — и не ошиблась в предчувствии. Подвиги А. М. носили однообразно развратный и подлый характер. И добродушное дядино: «а пила она, стерва, хорошо, в Стокгольме уходила в запои неделями, наши Берлин берут — а она ни тяти ни мамы», уже ничего не спасало. В тот вечер Вера испробовала с дядей эликсир Свободы, двух рюмок ей хватило, чтобы всю ночь шарахаться по квартире, подобно Татьяне Лариной, отправившей свое дивное письмо, и дядя исполнял роль Нянечки, советуя ей вложить два пальца в рот. С тех пор Вера убежденная трезвенница.
Ночами они слушали «голоса». И тут свершились августовские события в Чехословакии. Они словно поставили всему окончательный диагноз. Мир залило тьмой, но Вера увидела свою звезду.
Но пока они, волнуясь и теряя осторожность, крутили ручки радиоприемника ВЭФ (западные волны неистово глушились) — проснулся Зеленый Кум. Он, собственно, подозревал, что ее отношения с Выродком дошли до опасной точки, люди молодые, если и родственники, а он по себе знал, что человек — скотина. Оказалось, хуже. Много, много хуже. Несколько ночей Кум стоял под дверью — и уж их-то комментарии он худо-бедно уяснил.
Два последующих дня Вера и дядя Сева холодели под его тяжелым взглядом. Он не говорил ни слова — сначала это казалось необычным, потом тревожным, потом страшным. Они притихли и не подходили к приемнику. А он молчал, сидел на диване и всухую, с треском ел печенье «Октябрь», засыпав крошками полкухни.
Утром третьего дня, молча выгнавши полотенцем залетевшую синичку, он надел пиджак с орденскими планками, обулся, и пошел на улицу. Потрясенная Вера и Выродок вывалились из окна: он вышел из подъезда, сделал несколько шагов и упал.
С пятой попытки инфаркт добил его. В его кармане нашли заявление в КГБ. В нем, с приведением дат, времени суток и дословных цитат, изобличалась деятельность сына и внучки. Кум просил для внучки снисхождения, для сына-рецидивиста — сурового наказания.
У примолкшего дяди Севы исчезло лицо. Его выгнали, и след его простыл. Было глухое известие, что в 1986 году он перебрался в Страну Исковерканных Имен. Ни отец, ни мать не пытались объясняться с Верой. Они приняли случившееся на свои плечи, как дань зигзагам времени.
А в жизни Веры наступила героическая эпоха. Она решила служить правде, а поскольку «девушка ждет» — служить людям, ее несущим, то есть любить такого молодого человека. Найти — и любить. Таким человеком и оказался Миша Стригунов, ее лобастый и остроносый сверстник, горящий любовью к общественному благу.
Кстати, упомянутую косынку (вернее, косынки, их у Веры три — черно-серая, сиреневая и бежевая) Вера повязывает ежедневно, в любую погоду уже почти пятьдесят лет. Роза была права.
Музоньке исполнилось тридцать. Она защитила диссертацию по истории своей науки и работала на родном факультете. Там ее побаивались — она держалась обособленно, ни с кем не сходилась, не сплетничала и не держала речей в честолюбивых или выставочных целях. Когда встречалась с несправедливостью, всегда подавала голос против, лаконично объясняя: считаю, что это подлость, сделана ошибка, ее надо исправить. Иногда ее слушались, помня, кто есть ее отец, но со временем был распущен примирительный слух о том, что она не в себе после бегства мужа, блаженная. Она нисколько не изменилась внешне. Мужчины (а желающих хватало) ее совершенно не интересовали. Ее пятнали модным словом «фригидная». На самом деле она должна была выбрать его сама, но герой в бедламе тогдашнего отупенья и охаменья, не просматривался, не проявлялся. Ее сердце спало, а ее тело подчинялось приказам сердца.
Трудилась она много и старательно. Ее общественные взгляды изменились. Она по-прежнему не доверяла родной партии, но считала, что общественные изменения должны быть подготовлены кропотливым трудом миллионов честных людей. Узнав об этом, Иван Трофимович развеселился и перекрестился. Теория малых дел, стало быть, — остепенилась девочка. Уже легче. Где же кружка?
На такие мысли навел Веру оппонент ее диссертации, старик-профессор из Киева. Он был в нее влюблен и делился откровениями об эволюции, постепенности, фазах равновесия в общественной жизни. «Нам остается возделывать свой сад, Верочка, надо возделывать свой сад. И глядя на нас, этому научатся другие». Он имел в виду и что-то свое, и даже что-то нафталиновое, но Вера поняла его по-своему.
Год назад умер Иван Трофимович. Его погубил рак. Хоронили его, конечно, торжественно, помпезно. Роза Хасановна говорила Вере, что его считали старомодным, негибким руководителем; первый секретарь, которого теперь называли Хозяин, не любил Ивана Трофимовича. Вера очень жалела об отце.
Они зажили вдвоем с мамой, очень дружно, доверительно, хотя Розу Хасановну смущало, что дочь подминает ее, подчиняет своим взглядам, и ей приходилось на работе думать одно, а дома — другое. Они ходили в кино, в театр, и в один прекрасный вечер по-студенчески остались на обсуждении премьеры знаменитого «Золотого Слона», вещи очевидно антисоветской. Роза удивилась, ничто из увиденного и услышанного ее не покоробило. А происходящее на сцене показалось ей более интересным, ярким, что ли, сочным, что ли, чем, например, в ловких пьесах Погодина…
И тут случился форменный скандал, после которого Веру выжили с работы — «вынесли», на жаргоне тех лет. Она выбрала слепого.
Первого сентября 1979 года профессор, он же секретарь парткома университета В. Ю. Брехт в 8:45 вошел со звонком к первокурсникам в старинную аудиторию-амфитеатр, с удовольствием представился и, ласково щурясь на солнышко, начал читать им вводную лекцию по истории партии. Не успел он сказать первую фразу, как сверху послышался странный, негромкий, но вызывающий стукот. Он остановился, всмотрелся в лица студентов — на одних читалось недоумение, на других неловкие усмешки. Он продолжил — возобновился и стук. Стучали по партам, явно несколько человек. Неужели, подумал он, вот так, глупо, в моем университете, мы дождались наглых политических провокаций? Лицо его потемнело. Но к нему бежал уже староста потока. Он сообщил, что в аудитории находятся незрячие студенты. Они конспектируют лекции, ударно накалывая листы тонкого картона специальным металлическим крючком, сверху вниз и направо, от чего и стучат.
— А-а-а…, ну, в добрый путь, товарищи, — сказал повеселевший Брехт. К концу первого часа он привык к необычному аккомпанементу и ловил себя на том, что его подмывает им подирижировать: то ускориться, то замедлить темп, повесить паузу, вылепить длинное, сложноподчиненное предложение. Он мог, он лекции читал без бумажки, из самого себя. Забавная установилась между ними связь. Когда Брехт закончил, он чуть не сказал: «Спасибо, товарищи», имея в виду, что они неплохо помузицировали.
На факультет приняли целую группу слепых — из городов Западной Сибири свезли трех юношей и двух девушек. Всем им было лет по двадцать пять, все они отличались неординарными способностями, даже талантами, и изъявили желание получить высшее образование. У них была необыкновенная память, они говорили на хорошем русском языке и умели себя вести среди зрячих. Развитый слух позволял им легко ориентироваться в пространстве, они узнавали людей по походке, запаху, дыханию. Они аккуратно причесывались, гладили брюки, стирали белье и читали свои огромные книги, водя пальцами по пухлым страницам, как гусляры-баяны. При общей дисциплине и неожиданной любви к спиртному (наследие интернатского прошлого) они были разными и выглядели по-разному.
Слава Бородин видел свет и на сильном солнце — контуры предметов и людей. У него были обычные с виду глаза. Подвыпив, он за символический рубль читал желающим наизусть нетленного «Луку Мудищева», сладострастно играя голосом. Желающих было много. Витя Сатанеев (Сатана) был кос, слабо-слабо видел под большим углом и при разговоре вставал к собеседнику боком, как будто собирался его ударить. Он был меломан, играл на гитаре и имел дорогой магнитофон «Комета». Впрочем, магнитофон приказал долго жить, Сатана по пьянке выбросил его из окна с целью узнать, как он будет играть на лету. Коля Беневский, из ссыльных поляков, был сухой, очень сильный, симпатичный. Он не видел ничего, его глаза смотрелись мраморными, с нарисованными зелеными зрачками. Он был самым интересным, любознательным. Он мечтал построить свой дом, с верандой, красотами убранства и картинами, на которые будут любоваться его зрячие дети. У него был полный набор столярных инструментов, и его комната превратилась в столярку. В ней пахло стружкой, канифолью, лаками. Он ежедневно что-то ладил — художественные табуреты, этажерки, полочки, работал очень ловко и быстро. Он различал породы дерева на ощупь. Ремесло свое он то продавал, то отдавал, был щедрым, но стал самым богатым человеком в общежитии.