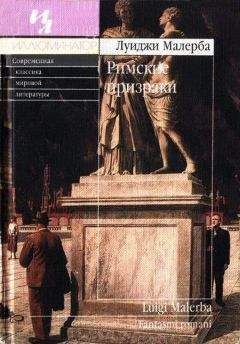Я уверена, что в иные дни их пожинает и Валерия. Иногда Джано возвращается домой измотанный и с болью в желудке. Я знаю, где он провел вторую половину дня, и прикидываюсь, будто верю в его желудочные спазмы. Так-то спокойнее. Спокойнее, но не очень.
— И почему перестали выпускать «Алька-Зельцер»? — жалуется Джано, чтобы сделать более правдоподобными свои «страдания».
Ну скажите, что мне делать с таким мужем? Хуже всего, что я его люблю. Очень. Вот кретинка.
Дождь льет уже две недели. Бешеный ветер сломал три пинии на набережной Маттеотти, огромный ливанский кедр на вилле Челимонтана, римский каменный дуб на площади Мадзини и сорвал крышу с одного из пакгаузов в Форте Боччеа. Папа-немец сказал, что ветер — это символ Святого Духа. Выходит, Святой Дух до такой степени взбеленился против нашей столицы? Каждую осень Рим превращается в огромную лужу. Улицы, окружающие пьяцца Навона, все ниже уровня Тибра, и я жду, что в одно прекрасное утро мою улицу зальет и тогда я окажусь отрезанным от города, пока наконец не явятся пожарные со своими лодками. Конечно, я преувеличиваю, все это мое назойливое воображение, особенно досаждающее мне во время дождя.
Интересно, летом Кларисса опять предложит мне отправиться в Порто Санто-Стефано, где у Занделя есть дом и яхта? Скажу откровенно: меня смертельно утомляет море, тогда как Кларисса безумно любит его и вместе с женой Занделя загорает нагишом на яхте, пока я умираю от скуки. Кроме того, там, в Порто Санто-Стефано, у меня ни минуты покоя, потому что Зандель каждый день предлагает совершить плавание то на Сардинию, то на Корсику, то, как минимум, на остров Джильо. Самая настоящая беда для такого человека, как я, который ездит к морю, чтобы побыть там в покое, почитать в тени книжку (когда жарко, я всегда ищу тень, а не солнце) или поспать в свое удовольствие, вдыхая иодистые ароматы моря. Единственное, что может побудить меня отправиться на яхте с Занделем, это желание сбросить его — нечаянно, конечно, — в воду, подальше от берега.
Удивительная у Занделя страсть к парусам: всякий раз, когда он выходит на своей яхте в море, он включает мотор и неизменно пользуется только им. В общем, готов поспорить, что он не сумеет справиться с парусами даже во время короткой прогулки в открытом море.
Хороша, признаюсь, его яхта, покрытая синим лаком, особенно если смотреть на нее, стоящую на якоре в Порто-Веккьо, а в это время Зандель посиживает в кафе «Кьодо» и не спускает с нее глаз, как с сокровища какого. Он спокоен: яхта никуда не денется. Отсюда особенно четко видно ее название «Ирина», выведенное крупным курсивом в стиле модерн. Названа она в честь жены и ее денег, на которые куплена и содержится эта великолепная игрушка.
Впервые я осмелился открыто воспротивиться Занделю, когда он в сотый раз предложил мне сплавать на Корсику, на восточный берег острова, в деревню нудистов, о которой ему рассказывали чудеса. Что за чудеса там могут быть, кроме зрелища множества голых женщин? По-видимому, Зандель там уже бывал, потому что он слишком уж обстоятельно рассказывал, как нудисты раздеваются не только на пляже (они совершенно голые прогуливаются или заходят в кафе), и пересказал мне историю об одной девушке, пытавшейся войти в бассейн топлес, но служитель заставил ее, черт побери, снять и почти прозрачные трусики.
Странно, казалось, что Кларисса ничуть не удивлена этим рассказом; я уж подумал, не слышала ли она его или, быть может, сама присутствовала при этом. В июне она ездила на Корсику с одной своей подругой: я тогда принимал экзамены в «Валле Джулия». Да нет, сказал я себе, ей просто захотелось проявить свою раскованность, а может, и выразить надежду, что я приму предложение Занделя, действовавшего слишком уж нахально: он вроде бы в шутку сказал, что Кларисса, в сущности, могла бы отправиться на Корсику с ним и с Ириной, раз уж я занят в университете. Кларисса смеялась, но не сказала «нет». Я не подал вида, но был взбешен — больше из-за поведения Клариссы, чем из-за предложения Занделя, которому я, естественно, воспротивился — с улыбкой, хотя внутри сгорал от злости. Речь шла не об обычном ухаживании, ставшем уже рутиной, а о самом настоящем покушении на нашу спокойную супружескую жизнь. Все нагишом на Корсике! В моменты вроде этого меня охватывает ярость, буря нейронов, которую мне с трудом удается унять. К счастью, она длится всего несколько минут, но минуты эти взрывные, и тем более опасные, чем сильнее я стараюсь их подавить.
Каждый вечер, а иногда даже в университете во время короткого перерыва между лекциями, я стал писать в толстой тетради роман с четырьмя главными героями — Кларисса, Зандель, я и Валерия, — выведя всех, конечно, под другими именами: Мароция, Дзурло, Буби и Таня. Сначала я хотел назвать себя не Буби, а Гайо, но анаграмма, хоть и неполная, была бы слишком откровенной, веселость не очень свойственна моему характеру и, следовательно, соответствующему персонажу. Никакого Гайо вместо Джано.[5]
В общем, роман буржуазный, как и его персонажи, да и не роман, а скорее попытка освободиться от подавленного гнева. На обложке тетради я поставил только две большие буквы — Д и У, которые можно расшифровать как Деконструктивная Урбанистика. Поскольку тетрадь я всегда оставляю дома, где ничего не держу под ключом, уверен, что этих двух букв и моего ужасного почерка будет достаточно, чтобы отбить у Клариссы охоту заглядывать в нее.
Не знаю, почему Зандель продолжает свои провокации, притом все более смелые, граничащие с пошлостью, и почему он так забавляется, ставя меня в неловкое положение (сравнил меня с черепахой, а ведь известно, что черепахи очень похотливы и во время своих долгих совокуплений издают пронзительные звуки). Этот рассказ о нудистах и откровения девушки, которая надеялась нырнуть в бассейн топлес, но ее заставили снять трусики… К счастью, нельзя было догадаться, что эта девушка — я. Зандель хотел сделать мне комплимент, сказав, что девушка была фантастически красивой. Он начал свой рассказ так, словно услышал его от третьего лица, но было совершенно ясно, что в действительности сам присутствовал при этой сцене. Когда же он начал описывать пробор в ее «кустике», я почувствовала себя обнаженной перед двумя мужчинами, видевшими меня голой множество раз, но не могло же так случиться, чтобы они увидели меня голой сразу оба, пусть только в своем воображении.
Зандель продолжал описывать пробор в курчавом «кустике», а потом сказал такое, чего не должен был говорить, то есть что «кустик» оказался белокурым, тогда как девушка была темноволосой. Я и так уже была вне себя — меня же раздели и описали во всех подробностях, — но когда Зандель заговорил о белокурых волосах на лобке у темноволосой девушки, я почувствовала, что проваливаюсь сквозь землю, потому что это различие, скажем даже противоречие, было свойственно именно мне, и Джано мог легко понять, что Зандель, рассказывая о той голой девушке, имел в виду Клариссу, присутствующую при разговоре.
Тут я сочла нужным вмешаться.
— Вполне нормально, — сказала я, — что волосы на лобке и на голове разного цвета, ведь может же быть у темноволосого человека светлая борода. Если тебя это удивляет, — добавила я не без ехидства, обращаясь к Занделю, — значит, у тебя просто небогатый опыт отношений с женщинами.
Я улыбнулась, давая понять, что говорю не зря и что такое различие не столь уж редкое; в качестве примера могу привести одну свою подругу: лобок светлый, а сама она темноволосая.
После своего выступления Зандель извинился (еще одна провокация), сказав в шутку, что предложил Корсику с нудистами Джано, зная его крайнюю стыдливость, но вместо «стыдливость» употребил слово «целомудрие» с лицемерной иронией. И снова стал рассказывать о девушке, раздетой служителем, чтобы окончательно сразить меня, ударить под дых, как я говорю.
— Может показаться странным, — сказал Зандель изменившимся, серьезным и низким голосом, — но та девушка так и стоит у меня перед глазами, она пронзила мне сердце… В общем, я посмотрел ей в глаза, наши взгляды встретились, и мне сразу стало понятно, что я мог бы полюбить ее и, не будь я женат, мог бы даже найти в ней подругу на всю оставшуюся жизнь. Такие вещи понимаешь внезапно; это было как удар молнии на краю бассейна в деревне нудистов, на восточном берегу Корсики.
— Но разве ты не сказал, что все это услышал от какого-то человека, побывавшего в деревне нудистов?
— Я сказал неправду. А что, это запрещено?
— Не запрещено, но бесполезно, в твоем возрасте были бы немыслимыми супружеские отношения — так я, кажется, поняла — с девушкой, которой, судя по твоему рассказу, лет двадцать.
Двадцать лет — я слегка растерялась, столкнувшись с этой новой ложью.
Зандель комментировал свой рассказ тоном, который я хорошо знала и который он приберегал для редчайших важных случаев, а вернее — для важных сообщений, захватывающих его до глубины души. Как я уже сказала, при этих его словах я почувствовала свою причастность к ним и поняла, что наши отношения — не просто взаимная симпатия и секс, теперь мы ввергнуты в пламенный любовный водоворот. Я вдруг поняла, что влюблена в Занделя, который до этого момента был только моим тайным любовником. Его слова стали самым настоящим объяснением в любви — высшая экстравагантность, — произнесенным в присутствии Джано. Правда, он бросил мне спасательный круг, отняв лет двадцать у сорокалетней девушки топлес.