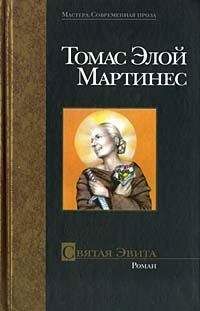На другой день боли были страшнее тех, что терпела на костре Жанна д'Арк. Эвита бранила божественное Провидение за свои муки и врачей за их советы лежать спокойно. Она хотела умереть, хотела жить, хотела, чтобы ей возвратили ее утраченное тело. Так провела она еще двое суток, пока ее не одурманили наркотиками и болезнь, утомленная долгим сражением, не удалилась в темные глубины тела. Мать и сестры сменялись по очереди у ее постели, но в тот день, когда Эвита пришла в сознание, возле нее была только донья Хуана. Они выпили по чашке чаю и долго сидели молча, обнявшись, пока Эвита, как всегда, не спросила, какой нынче день и по какой причине ей не принесли газет.
У матери голени были обмотаны бинтами, она то и дело сбрасывала туфли и клала ноги на кровать дочери. Из окон лился мягкий солнечный свет, и хотя стояла зима, снаружи слышалось воркование голубей[11].
— Уже шестое июня, — ответила мать, — и врачи не знают, что с тобой делать, Чолита[12]. Ломают себе голову, не понимают, почему ты не хочешь лечиться.
— Не обращай на них внимания. Моя болезнь поставила их в тупик. Они обвиняют меня, потому что не могут обвинять себя. Они умеют только резать да сшивать. А мою болезнь, мама, не вырежешь и не сошьешь. Она где-то там, глубже. — На мгновение взор ее затуманился. — А в газетах что пишут?
— Что им писать, Чолита? Пишут, что в Конгрессе ты была прелестна, совсем не похожа на больную. Им понравились норковая шубка и изумрудное колье. В «Демокрасии»[13] напечатали снимок семьи, приехавшей из Чако[14], чтобы тебя увидеть; в процессии они не могли пробиться и стали возле витрин издательства «Каса Америка», ждали, пока тебя покажут по телевидению. От волнения они разрыдались, и тут их запечатлел фотограф. Поверишь ли, глядя на этот снимок, я сама разревелась. Что еще пишут, не знаю. Ты считаешь, это важно? Вот посмотри на вырезки. В Египте военные все еще грозятся, что вышвырнут короля взашей. Пусть вышвыривают, правда? Мерзкий толстяк. Он на год тебя моложе, а кажется стариком.
— Меня назовут старухой из-за того, что я так отощала.
— Ты с ума сошла! Все считают тебя красавицей. Два-три килограммчика прибавить тебе не помешало бы, спорить не стану. Но и такая, как ты есть, красивее женщины не найти. Иногда я смотрю в зеркало и спрашиваю себя: откуда у меня такая дочь? Подумай, если бы мы остались в Хунине[15] и ты бы вышла замуж за Марио, того, из кондитерской! Вот было бы обидно!
— Знаешь, мама, мне неприятно вспоминать о тех временах. Эти люди причинили мне больше страданий, чем болезнь. Стоит вспомнить о них, и у меня пересыхает в горле. Ты и не представляешь, что они о тебе говорили.
— Представляю, но это меня не трогает. Теперь они душу продали бы, чтобы быть на моем месте. Странная штука жизнь, верно? Подумай, когда ты стала жить с тем издателем журнала — как бишь его? — ты была на седьмом небе. Бедняжка Элиса в отчаянии просила, чтобы я уговорила тебя порвать с ним — мол, ее мужа в их военном округе доводят до бешенства сплетнями. Мол, твою свояченицу фотографируют в трико, ее целуют в театральных уборных, она всем бочкам затычка. Я была тверда, вспомни. Я им заявила: «Чола не такая, как вы. Она артистка». А Элиса твердит свое: «Мама, где ваша голова? Чола живет с женатым мужчиной, который к тому же еврей». А я им говорю: «Она влюблена, оставьте ее в покое».
— Я не была влюблена, мама. Никогда не была влюблена, пока не встретила Перона. В Перона я влюбилась раньше, чем его увидела, за его дела. Не у всех женщин так бывает. Не все женщины понимают, что встретили мужчину, созданного для них, и что другого никогда не будет.
— Я знаю, что Перон необыкновенный, но и твоя любовь к нему тоже не похожа ни на какую другую.
— Зачем мы об этом говорим, мама? У тебя была жизнь не такая, как моя, и скорее всего мы друг друга не поймем. Если бы ты влюбилась не в папу, а в другого мужчину, ты, наверно, была бы другой. Перон сумел пробудить во мне самое лучшее, и если я Эвита, так именно поэтому. Вышла бы я замуж за Марио или за того журналиста, была бы я Чола или Эва Дуарте, но не Эвита, — понимаешь? Перон помог мне стать всем, чем я хотела. Я подталкивала его и говорила: я хочу это, Хуан, хочу то, и он никогда мне не отказывал. Я могла занять любой пост, какой бы захотела. Не заняла больше, потому что не успела. Из-за того, что я так торопилась, я и захворала. А что сказали бы другие мужчины? «Чола, ступай на кухню, свяжи пуловер». Ты не представляешь, сколько пуловеров я связала в редакциях журналов. С Пероном было по-другому. Я безумно его любила — понимаешь? И всякий раз, когда я тебе говорила: я люблю Перона всей душой, Перон мне дороже жизни, я этим говорила: я люблю себя, люблю себя.
— Ты, Чола, ничем ему не обязана. То, что у тебя внутри, это твое, и только твое. Ты лучше его лучше нас всех.
— Сделаешь мне одолжение? — Она отцепила от колье золотой ключик, легкий, как ноготок, с затейливыми засечками. — Отомкни им правый ящик секретера. Там, сверху, на самом виду, два письма. Дай их мне. Хочу что-то тебе показать.
Она спокойно лежала в постели, поглаживая простыни. Да, она была счастлива, но не так, как другие люди. Никто ведь не знает точно, что такое счастье. О ненависти, о несчастье, об утратах известно все, но не о счастье. А она знает. В каждый миг своей жизни она сознавала, чем могла быть и чем стала. На каждом шагу она себе повторяла: это мое, это мое, я счастлива. Теперь настал час горя: целая вечность горя в уплату за шесть лет полного счастья. Неужели это и есть жизнь, только это? Ей послышалась где-то вдали музыка оркестра, как на площади в ее родном городе. Или то было радио в комнате сиделок?
— Два письма, — сказала мать. — Вот эти?
— Прочти мне их.
— Дай погляжу… Где очки? «Дорогая моя Чинита».
— Нет, сперва другое.
— «Дорогой Хуан». Это? «Дорогой Хуан»? «Мне очень грустно, потому что я не могу жить вдали от тебя»…
— Я это писала в Мадриде, в первый день моего приезда в Европу. А может, в самолете, когда туда летела. Уже не помню. Видишь, какой почерк — корявый, нервный? Я не знала, что делать, хотела вернуться. Поездка едва началась, а мне уже хотелось обратно. Давай читай.
— «…я так тебя люблю, что мое чувство к тебе это что-то вроде идолопоклонничества. Не знаю, как передать тебе, что я чувствую, но поверь, я в своей жизни очень упорно боролась за то, чтобы стать кем-то, и ужасно много страдала, но вот появился ты и сделал меня такой счастливой, что мне казалось, будто это сон, и поскольку у меня не было ничего иного, чтобы тебе предложить, кроме моего сердца и моей души, я их отдала тебе целиком, но в эти три года счастья я ни на миг не переставала обожать тебя и благодарить Небо за доброту Господа, даровавшего мне в награду твою любовь…» Я не буду читать дальше, Чола. Ты плачешь, из-за тебя я тоже заплачу.
— Еще немножко, читай. Просто я ослабела.
— «Я так тебе предана, любовь моя, что если бы Бог пожелал лишить меня этого счастья и забрал меня к себе, я и в смерти осталась бы тебе предана и обожала бы тебя с небес». Почему ты это писала, Чолита? Что за мысль была у тебя в голове?
— Мне было страшно, мама. Я думала, что, когда вернусь из такой дали, его уже не будет. Что ничего не будет. Что я проснусь в комнате пансиона, как в молодости. Я умирала от страха. Все считали меня смелой, я ведь пошла дальше, чем какая-либо другая женщина. Но я не знала, мама, что делать. Единственное, чего я хотела, это вернуться.
— Почитать тебе другое письмо?
— Нет, кончай это. Прочти последнюю фразу.
— «…Все, что тебе говорили о моей жизни в Хунине, подлость, клянусь тебе. В час моей смерти ты должен это знать. Все ложь. Я уехала из Хунина, когда мне было тринадцать лет, и что такого ужасного способна сделать в этом возрасте бедная девочка? Ты можешь гордиться своей супругой, Хуан, потому что я всегда берегла твое доброе имя и обожала тебя…»[16]
— Какие сплетни ему доложили?
— Да про Магальди, ты же знаешь. Но я не хочу об этом говорить.
— Тебе, Чолита, следовало мне об этом рассказать, я бы приехала сюда и все объяснила. Никто лучше меня не знает, что из Хунина ты уехала чистой. Зачем ты унизилась до того, чтобы это писать? Если мужчина не верит, сам Господь Бог не вернет ему доверия. Но он тебе…
— Читай другое письмо. И не разговаривай.
— «Дорогая моя Чинита». Ишь, на машинке напечатано. Любовные письма, напечатанные на машинке, не так ценны, как написанные от руки. Наверно, продиктовал секретарю.
— Не говори так. Читай.
— «Я тоже очень грушу, что ты далеко, и считаю часы до твоего возвращения. Но если я решил, что ты должна поехать в Европу, причина в том, что никто другой не казался мне более способным распространять наши идеи и выразить нашу солидарность со всеми народами, недавно перенесшими бедствия войны. Ты делаешь огромное дело, и здесь, у нас, все считают, что ни один посол не сумел бы действовать так удачно. Не огорчайся из-за сплетен. Я никогда не обращал на них внимания, меня они не трогают. Еще когда мы не были женаты, мне пытались заморочить голову сплетнями, но я никому не позволял слово сказать против тебя. Когда я выбрал тебя, я это сделал из-за того, чем ты тогда была, и меня никогда не интересовало твое прошлое. Не думай, что я не ценю всего того, что ты для меня сделала. Я тоже много боролся, и я тебя понимаю. Боролся за то, чтобы стать тем, кем я стал, и чтобы ты стала той, кто ты есть. Так что будь совершенно спокойна, береги здоровье и не полуночничай. Что касается доньи Хуаны, за нее не волнуйся. Старуха — молодчина, она умеет за себя постоять, но клянусь тебе самым святым, я позабочусь о том, чтобы она ни в чем не нуждалась. Тысяча поцелуев и добрых пожеланий. Хуан».