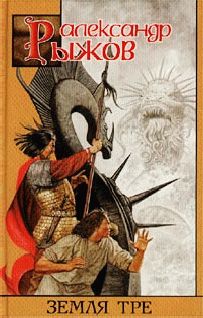Велимир Хлебников в «Радио будущего» говорит, по сути, не про радио, а про телевидение. Его фантастическое радио — это книги по всем городам и весям, встающие в гигантский рост, это Мусоргский от Владивостока до Балтики, это и выставки картин; и сеансы врачей-гипнотизеров. Даже название одной из радиостанций он предвидел: «Главный маяк Радио послал свои лучи, и Московская выставка холстов лучших художников расцвела на страницах книг читален каждой деревни огромной страны, посетив каждую населенную точку».
Здесь надо заметить, что читальни эти особые — радиочитальни.
Странно, что до сих пор никто не открыл Радио Хлебникова, где читались бы его стихи и вообще стихи, исполнялась бы особая музыка.
Часы шиповникаУ меня рефлекс: зацвел шиповник — читай китайцев. Давняя традиция, с чего началось, не помню. Ну и в начале лета читаю.
А этим днем позднего лета шел — и увидел пару распускающихся цветков. Обильные дожди после огненно-солнечной бучи сбили шиповнику стрелки. И вот, пожалуйста, у меня, как у собаки Павлова, — мгновенная реакция, хочется залаять по-китайски.
Но лаять не буду.
И стихами китайскими мучить не стану.
А вот расскажу сон.
…Начал рыться в бумажках, ведь я, как всякий порядочный человек, контролирую свое бессознательное, точнее сказать — регистрирую идущие оттуда импульсы, вспышки маяков, радиосигналы.
И зарылся окончательно.
Вот попалось: «Знаешь ли ты Дамаск?» Да, отвечаю, там растут ливанские кедры. Вопрос из сна.
Или: на деревянной башне взвод отдыхает, оружие оставили где-то; и вдруг по окрестным полям замелькали накидки, вроде бы идут крестьяне, их жены, дети; но в руках некоторых явно старинные английские винтовки — буры; удар пробуждения.
А вот: на лоджию рухнул сундук, окованный белым железом; мы задумались, открывать или не надо?..
Сны летние, зимние, девятилетней давности, сны о знаменитых, вот: длинная дорога в лужах, фыркает лошадь, показывается коляска, в ней Иван Алексеевич Бунин. И ваш покорный слуга, то ли кучер, то ли малый на подхвате, я так и не понял. Но хорошо запомнил мыслишку: «Надо написать воспоминания об этой поездке».
Ну, вот и написал.
Были сны месопотамские, тибетские. И точно — несколько китайских, особенно один, очень яркий… Нет, прав поэт, житье на земле и вправду обходится дешево, за сны не надо платить.
Ну, ладно. На этом остановимся. Собственно говоря (хороший оборот, как-то дисциплинирует, приструнивает), это лето было как сон: солнечный застывший шторм, ночные вылазки в магазины, короткие перебежки, змеи, кидающиеся на людей, дым; и вот спаслись, добрались до прохладного берега, как до одного из плавающих в океане Островов Блаженства, и увидели призрак весны.
ТамараМножество сведений, выписок — для идейного разговора персонажей; в итоге — полторы реплики по существу. Остальное сопротивляется, и так и остается сокрытым.
Герои тоже сопротивляются, одна героиня не хочет быть Раисой, а вот почему-то Тамарой. Хотя Раиса ей больше подходит по мнению автора. Нет, «Тамара». Как только доходит дело до ее реплик, сразу «Раиса» с «Тамарой» цепляются друг другу в волосы. Ну, хорошо, Тамара. И «она» успокоилась.
Сестра-тайгаТеперь мне кажется, что в тайге звучал этот голос: Сианхо Намчылак. Собирая сведения об эвенках, читая легенды и мифы севера, слушаю записи этой женщины, тувинки, живущей в Европе. Особенно хорош альбом «Time Out». Тонкая и нежная работа «Аржаана», о девушке, ставшей родником, своеобразная радиопостановка. Я, например, люблю такие вещи больше, чем кино: музыка и голос разворачивают краски и пространства небесные, земные непосредственно у тебя в голове.
Сбить следВ инете просмотрел, выловил имя одного эвенкийского писателя, пошел в библиотеку, но фамилию вспомнить не смог. Библиотекарь попросила сообщить хотя бы название книги. Я напрягся и вспомнил: «Алитет уходит в горы»! Она тут же села за коми и нашла автора: Тихон Семушкин. Книги, правда, не было. И только дома я обнаружил ошибку: моего писателя зовут Алитет Немтушкин. При рождении он получил имя Альберт, но, когда уезжал в Ленинград учиться, взял по совету знатоков шаманских дел другое имя. Тетка у него была шаманкой и считалось, что она «съедает» родственников и поэтому так долго живет, а они умирают. Ну, ему и посоветовали сбить след.
Но какова сила популярного имени. Ведь это фильм был такой, наш «вестерн» 49 года — «Алитет уходит в горы» про американцев, чукчей и советскую власть, — по книге Семушкина.
А Немтушкин сбил след и прожил долго. В инете я нашел его рассказы, непритязательные, но по-своему интересные, чистые, прозрачные. Реплика бабушки внуку: «Ты на целое Солнце старше его». Хорошо читать, слушая Сианхо Намчалык.
…Но это для тех, кто бывал на севере.
Рябь созерцанияВот застывшая секунда:
Ласточка чиркнет влагу крылом —
бегут мельчайшие волны…
Но, пожалуй, и не застывшая: рябь бежит по воде, по зеркальной глади ручья, берегом которого 800 лет назад праздно прохаживался поэт эпохи Сун — Сюй Цзи.
Медленнее, медленнее…Ортега-и-Гассет говорит, что главное в романе не судьбы, не приключения действующих лиц, а их непосредственное присутствие; нам нравится смотреть на них, постигать их внутренний мир.
Но ведь нравятся нам персонажи с судьбой? Персонажи, у которых есть что-то за душой? Те же приключения.
Но суть этой мысли вот в чем: не надо нам долгих рассказов о перипетиях судеб, покажите это в жестах, репликах, взглядах героев.
Эволюцию романа он определяет так: от приблизительного повествования — к представлению во плоти.
«Императив романа — присутствие».
Но все-таки это присутствие лучше, ярче раскрывается в острые моменты, в столкновениях, в конце концов, в тех же приключениях.
А Ортега-и-Гассет голосует за роман медлительный, это, мол, не сказка и не быстродействующий алкоголь.
Но кто сейчас читает медленные романы…
Против детективов«Если мир загадочен, то и образ загадочен» — говорил Тарковский.
Подкова на дверьВзял спиннинг и после обеда выехал. Сразу понял, что летом явно кого-то возил еще на багажнике, тушу солнца, — а теперь летел налегке.
Все выглядит странно: кругом зелень, но птиц не слышно; мир замер. Впрочем, Днепр течет себе. Дан Апр — Дальняя река, как называли его скифы.
…Воздух со свистом рассекла блесна, плюхнулась в воду. Это мое старое место, здесь всегда дерево скрипит протяжно, грубо — будто дверь открывается-закрывается. Но даже она молчала. Ветра нет. Взмахивал удилищем, крутил катушку, пока не заметил радужную подкову на воде, поднял глаза: над лесным холмом висело гало. Теперь, забросив блесну и наматывая леску на катушку, смотрел вверх. Не клевало.
Вдруг с протяжным скрипом отворилась дверь. А ветра нет. Я даже крутить перестал, прислушиваясь. Тихо. Блесна ушла на дно, вытащил двустворчатую раковину — перловицу. Раньше в деревне дети жарили такие на костре и ели. Робинзон на Днепре жил бы припеваючи. Только остров трудно найти.
Вечерело, становилось все прохладнее. Нет, рыба предпочитала ходить темными глубинами, и я ее понимаю. Каждому свое.
Когда выбрался на верхнюю тропинку и покатил среди дубов и сосен, кроны озарились солнцем и над ними замелькали ласточки. Гляди-ка, не улетают. Значит, ждут тепла. Не знаю, можно ли им верить.
По дороге попадаешь в зоны различных запахов. На тропинке сосновая горечь, дубовая прель, на асфальте бензин, железо, у деревни, конечно, навоз, сено, в низине что-то еще, запах каких-то других меридианов и прошлых времен, все стремительно меняется, даже не успеваешь вспомнить, где это уже было и когда.
Возле рощицы лошадь, телега, мужик складывал ольховые стволы. Мой велосипед двигался бесшумно, мужик не слышал, а пегая лошадь с белой звездочкой смотрела на меня очень внимательно, вела большими темными глазами.
Холодно. Впереди город. Рюкзак пуст. Но, как писали в советском журнале «Охотничьи просторы» (сейчас — деловито и реалистично «Охотничье хозяйство»), Иван Иванович возвращался без добычи, усталый и счастливый. Правда, это чувство осенью довольно специфично. В нем полнота и печаль всего сущего. Дверь распахнута навстречу зиме.
Не кочегары мы, не плотникиФолкнер, написав «Шум и ярость», устроился работать угольщиком на электростанцию, даже не кочегаром, а подвозчиком угля. Работал ночью.
А ты?
Не кочегары мы, не плотники… А…