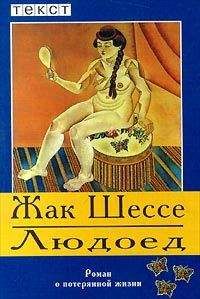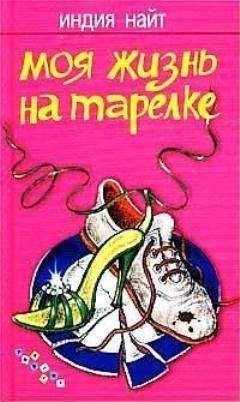Жан Кальме одним глотком допивает свой «рикар», и его мысли вновь обращаются к прошлому, счастливому, беззаботному прошлому, когда вся жизнь была впереди, полная обещаний и возможностей, и ничто не грозило разрушить душевный покой и любовь…
Его сотрясает дрожь. Вокруг него заканчивают обед рабочие в спецовках, торговцы в белых халатах; они платят по счету и расходятся по своим гаражам и лавкам. Их сменяют первые группы гимназистов, прибегающих сюда в перерыв между уроками; рассевшись маленькими компаниями, они смеются, курят сигареты, заказывают кофе, мальчики обнимают за плечи своих подружек. Жан Кальме никак не решается встать и выйти. Его сковало оцепенение.
Куда подевалась утренняя энергия? Но ему нравится думать, что гимназия — это сборище чистых душ — берет реванш над миром взрослых унылых людей, что «Епархию» каждодневно заполоняют эти юнцы, устанавливающие здесь свой порядок. Или беспорядок, какая разница!
Главное, теперь, когда доктор мертв, никто не может читать в его душе, и эта мысль необыкновенно утешает его. Он с тайной радостью поглаживает траурную ленточку, вот уже шесть дней украшающую отворот его пиджака. Некоторые из учеников вежливо здороваются ,с ним.
Он заказывает ростбиф и принуждает себя съесть все до крошки. Скоро четверть третьего, конец перерыва; подростки встают и, шумно перекликаясь, вываливаются на улицу пестрой ватагой — длинные, развевающиеся волосы, бусы с колокольцами, сари, застиранные джинсы, противоатомные значки, солдатские американские куртки, курчавые бородки, блестящие зубы. Затем площадь пустеет. Соборный колокол отбивает четверть часа. Кафе обезлюдело, официантки вытряхивают пепельницы в большой алюминиевый короб, который с грохотом тащат от стола к столу. Жан Кальме встает, выходит и медленно, задумчиво шагает по улице Мерсери.
Он распахнул дверь маленькой парикмахерской и с удовольствием вдохнул царившие там ароматы дешевой косметики. Эти сладковатые запахи были неотъемлемой частью приятного получасового забытья, проводимого в кресле. Вдобавок Жан Кальме был крайне доволен тем, что оказался единственным посетителем салона: значит, месье Лехти сможет посвятить ему все свое время, побалует, ублажит его как следует, и он сможет отдаться удовольствию процедуры бритья во всей полноте — и без свидетелей. Это было второе необходимое условие — никаких нетерпеливых взглядов за спиной, нервного шуршания газетой, многозначительного покашливания… Сидя в ивовом кресле посреди своего салончика, месье Лехти читал итальянский рекламный журнал. При виде клиента он расплылся в улыбке, вскочил, и Жан Кальме в который уже раз испытал чувство доверия и спокойствия, глядя на старого парикмахера с его длинными редкими зубами, впалыми щеками и высоким лбом с залысинами. Из нагрудного кармана его голубого халата высовывалась светлая расческа. Широким театральным жестом он пригласил Жана Кальме сесть в одно из двух потертых кожаных кресел. Жан сел, слегка откинулся назад, и его затылок коснулся приятно прохладного подголовника. И тотчас же его охватило предвкушение близкого и еще более полного счастья. Но торопить парикмахера не следовало. Месье Лехти действовал медленно, крайне старательно, и Жан Кальме восхищенно следил за его приготовлениями к действу в тишине салона, насквозь пропитанного одеколонными запахами.
Жан Кальме вкушал отдохновение в этих «палестинах» отнюдь не случайно. Старенькая базарная парикмахерская не пользовалась популярностью. Кроме того — и это огромное преимущество для людей, которым нравится погружаться в себя! — месье Лехти не принадлежал к числу тех брадобреев, что оглушают свою жертву потоком спортивных новостей. Он был молчалив, сдержан, и с его тонких губ слетал лишь один сакраментальный вопрос: «Не беспокоит?»
Он обмотал полотенчиком шею Жана Кальме, и тот в сотый раз удивился, до чего же меняет облик человека этот белый лоскут. Его черты, отражаемые наклонным зеркалом, вбиравшим в себя еще и край столика из искусственного мрамора, странным образом заострились, приобрели выразительность, подчеркнутую белоснежным обрамлением, и лишь теперь Жан Кальме мог созерцать себя снисходительно, без ненависти.
Месье Лехти взял с полки стеклянную коробочку и отсыпал из нее в алюминиевую чашку горсть крупного мыльного порошка. Добавив теплой воды, он аккуратно взбил помазком пену в блестящем сосуде — единственном ярком предмете среди блеклых деревянных стен его лавчонки. Шли минуты, помазок неспешно взбивал густеющую массу. Затем месье Лехти поднес чашку ближе к свету, удовлетворенно оценил полученную консистенцию и лишь тогда принялся накладывать пышную пену на лицо Жана Кальме, тут же размалевывая ее быстрыми круговыми движениями, старательно втирая мыло в кожу клиента, который сидел, закрыв глаза и откидывая голову под сильными, мерными нажимами помазка. Процесс намыливания лица дарил Жану Кальме необыкновенное ощущение спокойствия и свежести, вызывавшее приятную дрожь во всем теле, до самых колен.
Теперь месье Лехти взялся за бритву; он долго правил длинное лезвие на кожаном, широком, как портупея, ремне, который натягивал левой рукой. Бритва представляла собою блестящий стальной инструмент с желтоватой роговой рукояткой; лезвие мерно посвистывало, касаясь ремня. Закончив точить, парикмахер проверил остроту бритвы пальцем.
— А теперь за работу, месье Кальме! — промолвил он, улыбаясь во весь свой щербатый рот.
Взяв в левую руку помазок, он еще раз взбил пену на щеках и подбородке клиента.
Бритва касалась кожи с не правдоподобной деликатностью. Сперва она прошлась вокруг бачков, четко обведя их контуры, затем вдоль щек, тщательно соблюдая симметрию — прикосновение к левой щеке, глиссада вниз, сопровождаемая легким поскрипыванием, и тотчас же аналогичная операция справа; опять возврат налево, спуск к уголку губ — и тот же самый маршрут на другой стороне; рот чуточку скривился, натягивая кожу, чтобы острому лезвию было легче скользить по ней. На всякий случай месье Лехти еще раз вернулся к скулам и тщательно, но без нажима, провел бритвой по уже гладкому лицу.
Жан Кальме сидел с закрытыми глазами, смакуя невыразимо приятное ощущение свежести. Душа его исполнилась глубокого беззаботного покоя, каждое прикосновение бритвы напоминало деликатный знак внимания, дарило утонченное наслаждение. Он доверчиво отдавал себя на волю этих жестких умелых пальцев, этого заточенного лезвия, охотно вдыхал приторно-кисловатый запах рабочего халата и других парикмахерских атрибутов; поскрипывание бритвы, тихое, убаюкивающее, притупляло горькие воспоминания, доставляло сладостное, щекочущее удовольствие, растекавшееся по всему телу. Месье Лехти решительно откинул голову своего клиента назад и приступил к бритью подбородка скупыми круговыми движениями: лезвие теперь ходило совсем осторожно, то и дело возвращаясь к уже обработанным участкам, задерживаясь под нижней губой, а большой и указательный пальцы брадобрея легонько прищипывали кожу, то растягивая, то отпуская ее и помогая бритве, которая усердно оголяла лицо, непрерывно совершенствуя его вид.
Затем лезвие спустилось к кадыку, достигло белой повязки и вновь пошло вверх, сантиметр за сантиметром — к горлу, к левой половине нижней челюсти, к правой, к ушам, на миг задержалось в какой-то до сих пор не тронутой точке, подобралось к бачкам, двинулось к крыльям носа, поскребло закругленным концом в складках, до блеска отполировало напоследок щеки и подбородок.
Жан Кальме купался в тихом блаженстве.
Месье Лехти положил бритву на столик из искусственного мрамора.
Он добавил теплой воды в чашку с пеной, взболтал ее кисточкой, снова намылил щеки и шею Жана Кальме, взял бритву, подточил лезвие и очень медленно, словно желая всего лишь снять пену с лица, прошелся по нему теми же искусными глиссадами; зеркало отразило идеально гладкую, слегка лоснящуюся кожу.
Месье Лехти отодвинул край полотенца, подсунул в щель нагретую губку и обтер шею Жана Кальме за ушами и под подбородком. Затем он проворно открыл большой флакон матового стекла и опрыскал выбритое лицо одеколоном с острым кисловатым запахом ярмарочного леденца; спирт едко защипал кожу, но тут же выветрился, оставив приятное ощущение прохлады. Месье Лехти снял со своего клиента полотенце, обмахнул им его плечи, и вновь тайная счастливая дрожь пронизала все тело Жана Кальме.
— Причешите, пожалуйста! — сказал он.
Месье Лехти старательно расчесал волосы Жана Кальме. Процедура завершилась.
Жан Кальме расплатился, пожал руку месье Лехти и на миг задержался у порога салона.
Воздух был свеж, послеполуденное солнце золотило дома старинной улочки, сентябрь близился к концу… Жан Кальме вдохнул полной грудью и пошел бродить мимо лавок, заглядываясь на витрины. Он все еще смаковал недавнее удовольствие, им владела блаженная расслабленность и какая-то особая радость; всем своим существом он стремился быть узнанным, быть любимым, быть сильным и всемогущим. И Жан Кальме глядел на прохожих с новой уверенностью, безбоязненно изучая их лица и одежду, оценивая походку, любуясь женщинами, особенно женскими глазами — дивясь их разнообразию, их прелести, огоньку, играющему в зрачках. Многие из них отвечали Жану Кальме взглядом, который обжигал до мозга костей.