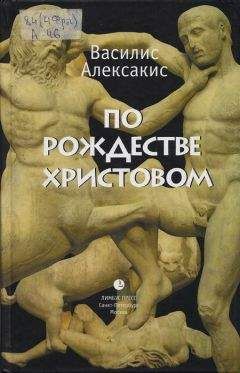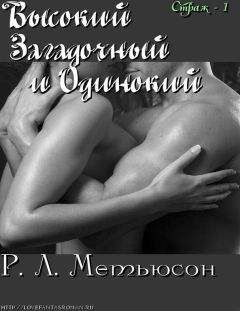Вот и все, что я пока нашел. В первые века христианской эры Халкидика приходит в еще больший упадок: кроме римского ига полуостров испытывает массированные вторжения славян и болгар, а также пиратские набеги. Население постепенно покидает Афон. В V веке на улицах городов встречаются только статуи.
Собранных сведений хватит, быть может, чтобы написать страниц двадцать, не больше. Однако эта случайно подвернувшаяся тема уже успела запасть мне в душу, и забросить ее будет нелегко. Изучение отдаленнейшего прошлого Афона — своего рода разминка перед усилием, которое мне предстоит сделать, чтобы сосредоточиться на другом периоде, начинающемся с постройки первых монастырей, в X веке.
Возможно, я зря смотрел на это исследование как на обузу. Кто знает? Быть может, мои познания об Афоне когда-нибудь мне пригодятся. Я был бы не прочь стать журналистом, хотя, вероятнее всего, мне придется посвятить себя преподаванию. Я убежден, что газеты редко открывают свои двери тем, у кого нет рекомендаций. Единственный из моих знакомых, у кого есть кое-какие связи в прессе, это Ситарас. Он выпускает на Тиносе ежемесячное обозрение и время от времени публикует статьи в «Авги». Завтра он должен приехать в Афины на день рождения Навсикаи. Ей исполняется восемьдесят девять лет.
Моя осведомленность об афонском монашестве уже принесла первые плоды — именно ей я обязан молниеносному развитию наших отношений с Янной. Эта набожная девушка изучает детскую психологию, должна получить диплом в этом году. У нее густые кудрявые волосы и голубые глаза. Единственный раз, когда я попытался погладить ее по щеке, в прошлом декабре (мы тогда ужинали в «Троянском коне», в таверне квартала Экзархия), она оттолкнула мою руку с такой яростью, что я даже испугался.
— Все вы одинаковые, — заявила она с отвращением.
Правда, к концу ужина она немного смягчилась, но я уже решил про себя, что это наш последний вечер. Позавчера, в понедельник, я увиделся с ней снова, в университетском кафетерии. Она сидела за столиком одна.
— Надо же, кто появился! — бросила она мне.
Я подумал, что лучший способ извиниться за долгое отсутствие — это упомянуть о своем исследовании.
— Пишу работу о Святой Горе, — объявил я ей довольно торжественно.
Она удивилась, словно считала меня если не безбожником, то, по крайней мере, скептиком.
— Ты? С чего бы вдруг?
Я попытался напустить на себя тот же сумрачный вид, что и Иосиф на фотографии.
— Почувствовал потребность лучше узнать наше духовное наследие, — сказал я в итоге, усаживаясь за стол.
— Со мной тоже такое было, несколько лет назад.
Она перевела взгляд на здание богословского факультета. На ней была черная кожаная куртка и светло-зеленая рубашка с воротником-стойкой. На шее по-прежнему висел серебряный крестик, который я заметил во время нашей первой встречи.
— Среди афонских монахов есть один перуанец, который принял православие и пишет стихи по-гречески.
Ее лицо просветлело.
— Правда? А я только про одного монаха знаю — про Паисия.
«У нее с моей матерью одни и те же сведения», — подумал я. Она без колебаний приняла мое предложение продолжить нашу беседу вечером. Прежде чем отправиться на свидание, я успел разузнать немного об этом Паисии, который провел свою жизнь отшельником и умер в 1994 году. Мы снова встретились в «Троянском коне».
— Лучший способ понять православие — это молитва, — сказала она мне с ходу. — Если не молишься, ничего не поймешь.
Ее волосы были подхвачены на затылке костяным гребнем. Никакого макияжа, только скромный аромат духов, показавшийся мне весенним. Я рассказал ей о поэзии Симеона, о наставлениях Иосифа и даже о его гастрономических предпочтениях.
— Ничего не остается, как заказать сардины! — предложила она.
Но в заведении не оказалось ни сардин, ни риса. Так что нам пришлось довольствоваться бараньими котлетами с жареной картошкой, салатом и полулитром красного вина, очень даже неплохого.
Она слушала меня с неослабным вниманием, буквально впитывала мои слова. А когда я поведал ей о монахе, который, прожив почти всю жизнь на Афоне, ни разу не ел мороженого, даже улыбнулась.
— Он так мечтал его попробовать, что незадолго до смерти нарочно сплавал на корабле в Урануполис и заказал себе мороженое.
Запахи еды быстро разогнали аромат ее духов. Нас обслуживали два старичка, необычайно похожих друг на друга. «Их сходство — дело времени, — подумал я. — У старости всегда одно лицо. Они, наверное, и умрут в один день».
Я объяснил ей, что Урануполис находится за пределами полуострова, но неподалеку, на заливе Сингитикос.
— Оттуда паломники и отправляются на Афон, предварительно получив разрешение в представительстве Святой Общины. Ты ведь наверняка знаешь, что туда нет свободного доступа, это называется аватон. Запрет касается в первую очередь женщин, но также детей и безбородых юнцов.
— Я в курсе, — сказала она, — и поверь, очень сожалею, что не могу туда попасть. Мне бы очень хотелось посетить монастырь Эсфигмен, который известен своей строгостью, монахи там даже вывесили огромный плакат: «Православие или смерть». Они объявили войну экуменическому патриарху Константинопольскому из-за тесных связей, которые тот поддерживает с Папой Римским. Сама я тоже совершенно против диалога между Церквями, он подрывает наше самосознание и грозит нас уничтожить.
Я готов был разделить любые ее взгляды, лишь бы это увеличило мои шансы провести с ней хотя бы одну ночь. А кроме того, избегал малейшего неосторожного жеста, желая убедить ее, что радикально переменился с декабря.
— Когда я молюсь ночью, у меня такое чувство, что я приобщаюсь ко всей вселенной, к звездам, к заснувшим птицам, к рекам, которые текут без конца, к паучкам…
— Не знал, что паучки спят по ночам.
Она заплакала. Я обнял ее и несколько раз поцеловал. Она тоже меня поцеловала. По дороге к ее дому мы ничего больше друг другу не говорили. В спальне она почти сразу же погасила свет. Я едва успел заметить над ее кроватью постер с изображением византийского императора и какого-то отшельника в рубище — наверняка Иоанна Крестителя.
— Один философ-пифагореец утверждал, что звезды движутся с оглушительным шумом, — сказал я. — Однако мы не способны различить этот звук, потому что слышим его с самого рождения.
Мы легли в постель. Сначала она отказывалась раздеться, потом согласилась. Я рассказал ей о руке Марии Магдалины, которая хранится в монастыре Симонопетра и все еще остается теплой.
— А сам-то ты против аватона?
— Пожалуй, — ответил я рассеянно.
Следующие часы показались мне даром небес. Я вернулся в Кифиссию в четыре часа утра. Прежде чем заснуть, бросил взгляд на календарь и увидел, что начавшееся 21 марта — первый день весны.
В полдень меня разбудил звонок мобильного телефона. Это была Янна. Властно потребовала забыть все случившееся.
— Ничего не было, слышишь?
Она причинила мне боль, но так и не убедила, что больше не захочет меня видеть. Пережду некоторое время, потом снова попробую. Позвоню ей, когда узнаю побольше об Афоне.
Мы воткнули в именинный торт Навсикаи только одну свечку.
— Мне кажется, я вижу огонек, — сказала она.
Но, увы, она не видела его, поскольку ей не удалось задуть свечку с первого раза. София слегка подвинула торт на столе. Пламя наклонилось, как тиносские деревья на ветру, потом погасло. Мы бешено зааплодировали.
— Вы позволите мне поцеловать вас? — спросил Ситарас.
— Ну конечно!
София пошла на кухню за шампанским. Племянник хозяйки дома, человек лет пятидесяти, тоже присутствовал. Я видел его впервые, но Ситарас был с ним знаком. Его фамилия Фрерис, так он мне представился, не назвав своего имени. Я несколько раз застал его за изучением комнаты — он внимательно осматривал мебель и ковры, как будущий владелец, уже задумавший глубокие преобразования. Он попросил разрешения бросить взгляд на остальной дом.
— Попроси Софию, пусть покажет, — ответила ему Навсикая устало.
Ситарас сообщил мне, что моя мать еще больше похудела. Питается одними салатами, вареной на пару фасолью и сухарями. И постоянно раздражена.
— Мне ее жаль, конечно, но и твоего отца тоже.
Я снова подумал о деревьях Тиноса, вечно согнутых, даже когда ветра нет. «Они смотрят на свои опавшие листья».
— Я по привычке причесываюсь перед зеркалом, хотя и не вижу ничего, — сказала Навсикая. — Не знаю, насколько я постарела. Мне-то кажется, что мое лицо не изменилось.
— Вы еще хоть куда, тетушка, — польстил ей Фрерис, только что закончивший осмотр дома.
Потом повернулся ко мне и заметил сухо:
— У зеркала в ванной края отбиты.