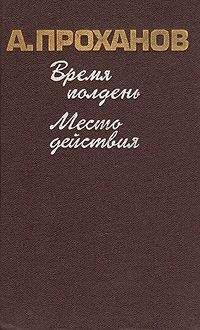— Солдатов, не ври до конца! Нам немного оставь! — крикнули ему шоферы, оставляя свою возню, расходясь к машинам.
— Ты, Седых, правду любишь? — оскалился Солдатов. — Ладно, скажу. У тебя, Седых, голова бубликом, в середке пустая… А теперь возьми-ка ты барышню в кабину и вези аккуратно в город, а не так, как грунт возишь. А вечером, если хочешь, я тебе про бублик продолжу!
Они смеялись, а Пушкарев думал: «Да, вот они где стыкуются, комбинат и Николо-Ядринск! Помимо тех краснобаев. Хиханьки, хаханьки — и общий язык находят. На танцульки пойдут…»
Женщина оторвала от букетика бумажную розочку, протянула Солдатову. Пушкарев, радуясь своему открытию, двинулся обратно к машине.
Он объехал строительство, вписывая его рваные очертания в стройный, циркульно-ясный чертеж.
Машина летела обратно по морозно-солнечным наледям, догоняя колонну «магирусов». Пушкарев рассеянно, утомленно смотрел на бегущий впереди самосвал.
И внезапно на дальней дистанции уловил косой и разящий удар по трассе, колыхнувший бетон, лесную опушку и небо, сбивший прочь самосвалы, раскрутивший их волчком. Встали, развернув борта, чадя и коптя.
«Волга» подлетела. Пушкарев выскочил и увидел расколотый, с выдранным, дымящим радиатором «магирус». Среди брызг стекла, в провале кабины потрясенное, живое, в красных надрезах лицо шофера. И беззвучно кричащая знакомая Пушкареву женщина в тулупчике. А на трассе горой, охваченный красным паром, выпуская убитую горячую жизнь, лежал лось, раскинув обрубки ног, и они дымились на концах, как головни.
Вместе со всеми Пушкарев топтался, утешал, извлекая из кабины, ощупывал и оглаживал, убеждаясь, что невредимы, ахая, перебивая, выкрикивая. Но это минутой позже.
А в первое мгновение застыл, пораженный этим огромным внезапным ударом. Посреди Сибири в метеорном взрыве столкнулись косматый зверь и железная, в хромированных деталях машина. Он, Пушкарев. Она, беззвучно кричащая, с преображенным, прекрасным, залитым слезами лицом. Словно удар пришелся по нему, Пушкареву.
— Витька, Седых, живой?
— Я иду ему в хвост, гляжу, он на Витьку прет!
— Да где успеешь! Оба под семьдесят гнали!
— Хуже нет лосей. Как бомба! У него кости, как рельсины. Железо насквозь прошибают!
— Моли бога, Витька, что жив, что он тебе по капоту врезал!
Шофер, весь в порезах, ощупывая воздух руками, заикался и всхлипывал:
— Я шел, и он-то откуда?.. Не успел… Разве можно?..
Женщина, с рассыпанными волосами, в растерзанном полушубке, задыхалась в слезах:
— Господи! Господи! Господи!..
На трассе возникла пробка. Подкатывали грузовики. Водители выскакивали, чертыхались, охали. Жалели машину. С любопытством рассматривали мертвого зверя.
Лось лежал среди работающих моторов, окруженный радиаторами, переломанный, перебитый. С вырванным горлом, из которого выступал обрезок хрящевидной трубки, и хлестала черная гуща, и летело неживое дыхание, одевая лес, машины, людей в красный воздух. Оторванные копыта валялись в стороне, на бетоне. Одно, с розовой бабкой, висело на обрывке кожи. В губастой костяной голове одиноко и жутко стекленел темный глаз. Вместо другого кровенела дыра, из нее подымались и лопались пузыри. Люди наклонялись, осторожно трогали пальцами шерсть.
Раненый грузовик тихо звенел металлом. С разодранной железой губой, с проломом в крыше. Шофер гладил оскаленную рваную сталь, бессмысленно складывал осколки стекла.
— Как чувствуете себя? — Пушкарев поддерживал под руку женщину. — Вот здесь, на щеке, чуть порезано, — своим платком коснулся ее щеки, сняв отпечаток ранки.
— Какое несчастье! Какой-то рок! — говорила она не тем бойко-слободским говорком, а глубоким, влажно-певучим голосом, поразившим Пушкарева волнением и силой. — И зачем я поехала? Господи…
Она прижималась к Пушкареву. Ее рука с золотым кольцом несколько раз сильно и жарко коснулась его руки.
— Очистить трассу! Давайте кран сюда! — командовал он, увидев полосатый колесный кран.
Появился металлический трос. В несколько рук, ловко, умело накинули лосю на задние ноги. Зацепили за крюк. Кран заурчал, потянул. Лосиная туша, шурша, скользнула, оставляя на дороге щетину, влажную лежку. Оторвалась от бетона с утробным стоном. Повисла в воздухе, не касаясь мордой земли. И казалось, что убитый лось парит в небесах над темными башнями ТЭЦ, машинами и железными трубами. Пролетает над стройплощадками, кропля из небес мелкими красными каплями.
Лося опустили в кузов. Самосвал ушел, колыхая звериное тело. Машины двинулись, размазывая по бетону багровые полосы. Унося на протекторах отпечатки винного цвета.
Пушкарев, посадив с собой женщину, ехал в город.
— Что вы тут делали? — спрашивал он ее, видя, что она успокоилась.
— Хотела посмотреть… Я актриса… Давно хотела… Думала, поеду, взгляну. Вот и взглянула… — перед зеркальцем она доставала помаду.
— В театре? Актриса театра?
— Да, и хотела взглянуть… Господи, какое несчастье!.. Спасибо, спасибо вам!.. — платком она вытирала порез на руке.
Он довез ее до театра и высадил у резных куполков и шпилей. Уходя, она благодарила его, еще бледная, но ожившая. И он хотел в ней узнать ту, недавнюю, которую видел у афиши с бумажным букетиком и, немного позже, с Солдатовым. Не мог, видел другую женщину.
Поздно ночью он явился в свою пустую, похожую на гостиничный номер квартиру. Сел устало, оглядывая голые стены. Тяжело закрыл веки. И под ними беззвучно и трепетно вспорхнул бестелесный, уже не существующий день. Волчья шапка металась в пожаре. Хлестал по афише букетик бумажных цветов. Лось аэростатом проплывал над вершинами леса, свесив блестящий трос. И под ним — белоснежное, в слезах и улыбках лицо.
Очнулся, прогнал наваждение. Взял телефонную трубку.
— Иван Степанович, как там у вас, на котельной? — вызвал он энергетика. — Вы там меня за утреннее, того, извините… Погорячился. Виноват… Ну, спасибо… А за котлами следите. Держите, ради бога, давление!
Повесил трубку. Через минуту снова поднял.
Услышал голос командира авиаотряда.
— У меня к вам просьба, так сказать, личного свойства. Ваши ребята в Москву летают. Пусть там купят букет… Ну да, букет… Ну какой-нибудь там… Ну розы или что там увидят… Да уж, прошу вас.
Засыпая, увидел: в черном сибирском небе из-за Урала, над снегами и льдами, в лунных размытых кольцах, тихо летит букет, оставляя в пространстве слабый светящийся след.
Горшенин держал белое, свежевыструганное древко новой кисти, чувствуя ее теплоту, кроткую готовность служить, принимать горячую нервную силу его ладони, превращаться в твердую стальную упругость разящего инструмента. Кисть, зрачок, прозрачный стакан воды, краски, расчлененные и уловленные, заключенные каждая в крохотную фарфоровую темницу, и белый приколотый лист, и то место в груди, где среди дыханий и сердечных биений, еще бестелесная, живет и цветет картина. И это разделение всего: мира вокруг, дыхания в груди, красок, воды и бумаги, — мгновенный удар зрачка, сближающий все в единство.
Горшенин работал все яркое, морозное утро, стараясь не потерять ни луча из этого желтого, сквозь замерзшие окна солнца. Держал влажный лист на свету, передвигая его медленно по столу, совершая ежедневное, по дуге, движение от подоконника с острыми сквознячками холода и озябшим цветком к стене, где солнце терялось и висел старинный корабельный фонарь с надписью «Св. Николай». И это скольжение за светилом и одновременное совершение работы приносило ему ощущение счастья и космического смысла того, что он совершал.
Он писал большую огненную акварель, себя и жену, — не нынешних, а тех, что когда-то, казалось, совсем недавно, сидели за этим столом, удивленные своей близостью, возможностью встать и друг друга коснуться. Любил этих двух, исчезнувших, одевал в небывалые дорогие наряды, угощал золоченой рыбой, ставил перед ними огненно-зеленые чарки, и в окно за их головами по заросшей травою улице текло красное стадо, неся на рогах деревянный город, резные карнизы и ставни.
Очнулся от звона стекол, хриплого дрожания и лязга, сотрясавшего стены, чашки в шкафу, воду в стакане. Выглянул. Три огромных грузовика бросали из выхлопов дым, запрудив всю улицу, въехав в нее граненым железом. Передний, проломив мосток, рухнул в яму, накренился и, взбухая от яростного рева, буксуя, вышвыривал из-под себя гнилое дерево, лед, ворочался посреди улицы, готовый вот-вот ударить ребристым бронированным кузовом в косые ворота дома.
— Кузьма, черт! Приглуши! Сейчас трос накину, дерну! — шофер из задней машины, цепкий, ловкий, с веселым лицом, вытащил из кабины блестящий трос, накинул на крючок. Уселся за руль. С тяжелым ревом, натянув стальную струну, стал пятиться, выволакивая осевший грузовик на ровное место. Выволок, выскочил из кабины, снимая трос, крикнул сквозь дым: