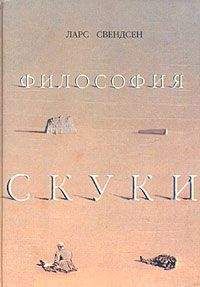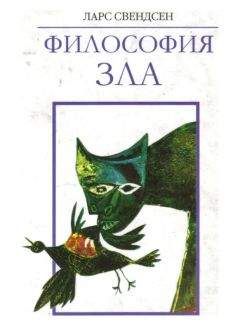Теодор Адорно объясняет скуку отчуждением от работы, когда свободное время совпадает с отсутствием самоопределения в процессе производства.
Свободное время — время, проведенное в досуге или предназначенное для досуга. Но о какого рода свободе идет речь? О свободе от работы? В таком случае именно работа — антоним досуга. Разве на досуге мы более свободны, чем в процессе работы? Бесспорно, мы играем разные роли в разное время: во время работы — мы производители, а во время досуга — мы главным образом потребители. Но мы вовсе не обязательно ощущаем себя свободнее в одной роли, чем в другой, и любая из этих ролей не может быть более необходимой и осмысленной, чем другая. Ибо, как уже было сказано, скука — это не вопрос работы или праздности, но вопрос смысла.
После работы, которая кажется бессмысленной, следует свободное время, которое тоже представляется лишенным смысла. Почему же работа не имеет никакого смысла? Конечно, в этом случае легче всего сослаться на отчуждение, но я предпочитаю все-таки говорить о равнодушии, потому что считаю, что понятие отчуждения уже устарело. Я бы хотел вернуться к этому вопросу в последней части эссе.
В эссе «Идентичность» Милан Кундера пишет:
По-моему, экспансия скуки на сегодняшний день очевидна. Скука захватывает все большее пространство. В прежние времена представители почти всех профессий относились к своей работе с чувством долга и уважения. Крестьяне любили свою землю, дедушка казался троллем, который сидит за прекрасно сервированным столом, сапожники могли знать наизусть все туфли в округе, осмелюсь даже предположить, что и солдаты несли свою службу и даже убивали со смыслом. Это не вопрос смысла жизни, просто они воспринимали себя на земле или на фабриках вполне естественно. Каждая профессия создавала свой менталитет, свой способ бытия. Менталитет врача отличался от менталитета фермера, а, например, солдат вел себя иначе, чем учитель. Сегодня же мы все одинаковые, мы все объединились в своем равнодушии к работе. Это равнодушие уже становится общественной чертой. Равнодушие — единственное великое коллективное страдание нашего времени.
И хотя Кундера в этом фрагменте сильно романтизирует прошлое, но важно то, что он обращает внимание на нивелировку разницы и возникшее в результате равнодушие. Он отчасти объясняет, почему работа сама уже не может рассматриваться как элементарный ответ. Работа уже более не входит в некие важные взаимосвязи, которые могут вдохнуть в нее смысл. Так что работа вполне может стать исцелением от тоски, так же как алкоголь или шприц с наркотиками могут способствовать побегу от самого времени.
Так что же получается, неужели жизнь современного человека — прежде всего побег от скуки? А скука — это шаг к преступлению, как, например, у Шарля Бодлера, у которого самое важное отождествляется с перверсиями и с новым. «Цветы зла» завершаются эпизодом смерти, в «Путешествии» только смерть — единственно новое из того, что происходит.
Смерть! Старый капитан! В дорогу!
Ставь ветрило!
Нам скучен этот край! О Смерть, скорее в путь!
Пусть небо и вода — куда черней чернила,
Знай — тысячами солнц сияет наша грудь!
Обманутым пловцам раскрой свои глубины!
Мы жаждем, обозрев под солнцем все, что есть,
На дно твое нырнуть — Ад или Рай — едино!
В неведомого глубь — чтоб новое обресть!
Точку зрения Бодлера разделяет Вальтер Беньямин, который утверждает в «Центральном парке»:
«Для людей, по крайней мере, современных, может быть только одна радикальная новость — притом всегда одна и та же: смерть»
События, которые, сколь бы незначительны они были, разворачиваются в окружении камер и микрофонов, могут быть раздуты до невероятных пропорций. Все потенциально видимо, нет ничего скрытого. Мы можем говорить о пантранспарентности, о том, что все прозрачно. Прозрачность и все имеющиеся истолкования мира взаимосвязаны. Просвечиваемость, транспарентность не всегда непосредственна, но всегда предстает таким образом, что мир кажется видимым, а толкования опустошают его и превращают в мистерию. Мир становится скучным, когда все предметы и явления видимы. Поэтому мы испытываем чувство опасности и шок. Мы заменяем невидимое экстремальным. Вероятно, еще и потому, что мы так увлечены «уличными беспорядками» «и слепым насилием», о которых нам ежедневно сообщают таблоиды. Но как скучна была бы жизнь без насилия!
У нас сформировалось эстетическое отношение к насилию, и эта эстетика, конечно же, со всей очевидностью возникла из антиэстетики модернизма, с фокусом, нацеленным на шокирующее и скандальное. К тому же с точки зрения морали мы бы хотели, чтобы в мире было меньше насилия. Хотя лично я не уверен, что в данном случае моральные соображения перевешивают эстетические чувства.
Конфликты ценностей в современном обществе разыгрываются не только между разными социальными группами. Столь же уверенно можно утверждать, что конфликтуют простые субъекты, которые участвуют в разных сферах ценностей, например в сфере моральных и эстетических ценностей. Конфликты между разными социальными группами могут быт разрешены, если обратиться к нейтральной, более высокой инстанции, и таким же образом можно нейтрализовать конфликты и между простыми субъектами.
Насилие очень «притягательно». В финале эссе «Произведение искусства в возрасте репродукции» Вальтер Беньямин пишет:
Человечество в эпоху, например, Гомера, находилось под наблюдением, под прицелом олимпийских богов, теперь оно созерцает самого себя. Отчужденность человечества от самого себя достигла уже такого уровня, что оно может переживать свое собственное уничтожение как эстетическое удовольствие высшего класса.
Благодаря скуке многое может представляться как заманчивая альтернатива, и тогда можно подумать, что мы действительно нуждаемся в новой войне или великой катастрофе. Роберт Нисбет полагает, что скука может стать катастрофической: «Скука может стать для западного человека величайшим источником несчастья. И только катастрофа, как представляется, могла бы в сегодняшнем мире стать бесспорным и наиболее вероятным путем к спасению от скуки».
Проблема заключается в том, что те, кто выживут после великой катастрофы, вряд ли смогут спастись от скуки. Но для тех, кто еще не знает, что такое катастрофа, мир, который находится на грани гибели, может стать драматическим избавлением от скуки.
В эссе «Чудо в пустых руках» Жорж Бернанос выступает как пророк, утверждая, что скука может стать самой серьезной причиной гибели человечества.
Тоска и скука выживут даже в случае гибели человеческого рода. Человека медленно поглощает скука, как балку поглощает невидимое болото» Например, если вспомнить про мировые войны. Они, несомненно, свидетельствуют о дикой витальности людей, но на самом деле доказывают их все возрастающую тупость. В конце концов в определенные эпохи огромные толпы людей попадают на бойню.
Скука — как своего рода бесцветное предвкушение смерти, и можно подумать, что насилие и реальная смерть более предпочтительны, что лучше бы мир рухнул сразу, от одного удара, чем вечное жалкое убогое нытье. Ницше утверждал, что мир могут погубить удовольствия и сублимация.
Скука способна и открыть горизонты и наметить перспективы существования, даже если человек считает, что оно абсолютно бессмысленно. Иосиф Бродский писал: «Ибо скука говорит на языке времени, и ей предстоит преподать вам наиболее ценный урок в вашей жизни… урок вашей крайней незначительности».
Человек внедрен в бесконечность бессмысленного времени. Ощущение времени изменяется таким образом, что прошлое и будущее исчезают и все сублимируется в беспощадное «сейчас». Как поет группа «Talking Heads»:
«Рай — это место, где ничего не происходит»
В подобной трактовке скука кажется неземным ощущением. И вечность вторгается в этот мир из потустороннего ареала. Но ученые-мистики описывают эту вечность или монотонность совершенно иначе. Саймон Вейл, например, пытается охарактеризовать разницу между вечностью и монотонностью:
Однообразие — самое прекрасное и самое безобразное из всего сущего. Самое прекрасное — это отражающаяся вечность. Самое безобразное присуще бесконечному и неизменному. Побежденное время или бесплодное время? Символ прекрасного однообразия — круг. Символ грубого однообразия — это тиканье маятника.
В скуке невозможно победить время, которое кажется тюрьмой. Скука родственными узами связана со смертью, но это парадоксальное родство, потому что скука — своего рода смерть, в то же время смерть возникает как единственно возможный феномен, неразрывно связанный со скукой. Скука свидетельствует о предельности и ничтожности. Она как смерть при жизни, но не жизнь. В бесчеловечности скуки мы постигаем горизонты нашей человечности.