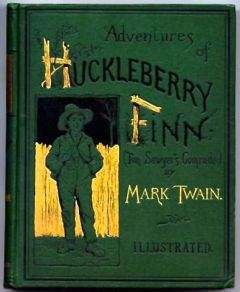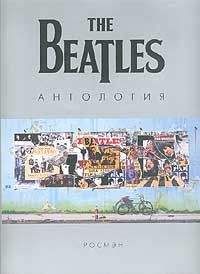Тэсс была подругой Майка, огромная, настолько жирная, что отказывалась выходить из дома, за исключением тех случаев, когда Майк брал ее под руку, чтобы дойти до Риджент-стрит, для нее это были самые прекрасные моменты в жизни. Два или три раза Майк брал меня к ней after hours[48], поздно вечером: Тэсс была из тех, у кого сидят до самого утра. Мебель в ее маленьком доме была современная, поражающая своей оригинальностью: светильники, столы, кресла, сокровища среди сокровищ; стул Корбюзье[49], когда на него садишься, кажется, обретаешь самого себя во всем проявлении и, возможно, в искусстве. Этим вечером там, к счастью, было полно народу, в том числе пара американцев с ребенком. «His name Jack Andy»[50], — представил Майк, которого я не видел тысячу лет. Его волосы снова потемнели, он напоминал Меркуцио, каким тот изображен в пьесе Шекспира, был слишком рано убит и как будто воскрес гораздо моложе и веселее. Он полулежал на диване, оттягивая струны старой гитары, полностью погруженный в музыку, пылавшую в нем. Джек Энди лепетал в своей колыбельке, Гарри сразу взял на себя роль няньки, и малыш ему улыбался. Симон и Барбара уселись вдвоем (как им это только удалось) на стуле Корбюзье. Тэсс снова и снова варила кофе: «Another сир of coffee, Chris?»[51] Я вспоминаю название песни, которую Майк играл той ночью (он называл это по-английски numbers): «Listen to that number»[52], — говорил он, когда находил что-нибудь, по-настоящему находил — это был его традиционный способ делать открытия. И так из его инструмента рождалась музыка, она появлялась в такт его пальцам, даже если он набросал ее накануне или как-то вечером, когда шел дождь и Майк сидел у себя в комнате: «What do you think? Pretty good, isn' it?»[53] Это была музыка, которую вы ощущали моментально, волнующая, тонкая, горькая, иногда резкая, какой сейчас не бывает. Она существовала только тем вечером, в той комнате в квартире Тэсс, в Кембридже, где сходились параллельные линии и где в 4 часа утра, уходя, пропитанный музыкой, нежностью, усталостью и дымом, я обнаруживал спящего в неудобном положении на последних ступеньках лестницы Гарри, а у его ног храпела собака.
На следующий день, вечером, Барбара описывала эту магическую ночь Мэйбилин, в ее голосе слышалось волнение, лицо было воодушевленным, тело дрожало, она вся возрождалась в воспоминаниях, я подумал: каждый раз, когда кто-то слышит игру Майка, в этом человеке что-то меняется, волнуется, словно под действием маленького рычага, как будто выбили клин и корабль поплыл по морской глади. Несколько нот Майка были способны изменить ход вещей, уничтожить все то, во что мы верили в музыке, дать понять, что все совсем не так, как кажется на первый взгляд. Каждый раз, беря в руки гитару, Майк переворачивал мир с ног на голову, и казалось, что человечество становится чувствительнее, восприимчивее, выходит новым и единым. Я видел, что жизнь Барбары уже не была прежней, она слушала Майка, и цвет реальности изменился по сравнению с тем субботним вечером у Тэсс — вот именно за это я восхищался Майком, его силой, появлявшейся в нем, как только в руках оказывалась гитара. Ритмы, рождавшиеся под его пальцами, будь это блюз или босанова[54], или его собственный, им самим придуманный стиль, которому требовалось дать название (ни у кого это уже и не получится, где Майк теперь?), эти ритмы моментально разбивали существование так, что мы сразу входили одновременно и в серьезный мир, и в поэтическую меланхолию. В каждой песне, как бы она ни была полна юным дыханием, слышалось предвестие. Вся жизнь была такой же равнодушной, глухой, как бессмысленный припев. В одной из песен бесконечных печалей появлялись старик — эдакий Иов — и ворон, которые разделяли одну пещеру. Отшельник делился с птицей взглядами на жизнь, радостями, страхами и опасениями, надеждами, и каждый раз припев ворона был неизменен. Старик спрашивал у птицы, был ли он, ворон, с ним счастлив, а тот отвечал: «Yes ту friend, yes ту friend»[55]. Он спрашивал, не идет ли дождь, а тот отвечал: «Yes ту friend, yes ту friend». Но когда старик поднимал глаза, он видел, что на небе нет ни облачка. Когда среди ночи старик вскакивал, разбуженный треском костра, и в ужасе шептал ворону: «Скажи, что никогда меня не покинешь», птица успокаивала его: «Yes ту friend, yes ту friend».
Всякий раз, когда ждал Мэйбилин после занятий, а погода была дождливой, я говорил, хотя это и было невежливо, что ждал ее зонтик. Это скрывало мое желание идти рядом с ней, прятало чувство, что я готов на все, чтобы она об этом не догадалась.
Она смеялась и упрекала в эгоизме за то, что я пытался поменять тему, а когда я оправдывался, она твердила: «Да нет же, ты эгоист!» Я неплохо овладел искусством держать зонтик, когда начинало накрапывать, а мы направлялись по Стейшн-роуд к центру города, идти нужно было непременно рядом, по скользкому тротуару, обходя, обгоняя, огибая идущих рядом людей, не забывая поддерживать разговор, крутящийся вокруг зонтика. Я утверждал, что это слово кажется мне странным и более наглядным по-английски, так как английское слово umbrella[56] допускает, что предмет можно использовать для того, чтобы создать тень, так как он должен обозначать вещь, которая защищает от солнца. В то время как французское слово, как суровое картезианство[57], объясняет, для чего существует данный предмет. Мэйбилин поддерживала противоположную точку зрения, но не помню какую именно. Umbrella — это было именно то слово, под которым мы укрывались, о котором спорили, открывали и закрывали вещь, бесконечно практичный инструмент. Во время вызываемых им дискуссий, правда не сразу, он давал выход чувствам, рассеивал, вытаскивал наружу, на время защищал нас. Сегодня я думаю, что жизнь и есть возможность со всей серьезностью обсуждать разницу между английским и французским вариантом слова «зонт», идя с кем-нибудь по улице, несмотря на начинающийся ливень.
Английский язык создавал особые отношения, он придумывал нас самих и наши отношения, их, возможно, могло и не быть, если бы не английский, со всеми нашими затруднениями, спотыканиями, неловкостью. Язык наполнен свойственным ему чувством юмора, склонен к абсурду и ко всем тем вещам, которые нам завещала английская литература, — до такой степени, что кажется по-настоящему я пришел второй раз в этот мир именно благодаря английскому языку.
У нас родилась важнейшая мысль, что мы только эскиз самих себя. Мне понравилось, как Мэйбилин произнесла это слово по-немецки, в тот момент, когда я пытался развить эту мысль, она заменила им французское выражение. Немецкое слово entwurf[58] казалось мне более выразительным, отражающим устремление, движение вперед, а французское слово произносится не столь динамично, нет той решимости, резкости, оно более робкое и изящное. «Of course, you’ve got to look for happiness and not just wait for it»[59], — заявила Мэйбилин. Ясным было только то, что сквозило в обоих языках, нужно постоянно совершенствоваться, дополнять образование, мы словно черновик, который нужно приводить в порядок, работать над ним каждую минуту, мы это поняли в тот момент, когда почти начали спорить: мы оба рассмеялись, и я начал рассказывать, что Майк — я ей очень часто говорил о Майке, так как она была с ним едва знакома, и боялся, что у нее не лучшее о нем впечатление: черный плащ, вставные зубы, крашеные волосы, — Майк, возможно, слишком далеко зашел в искусстве преображения себя. Ему было девятнадцать лет, он выглядел как художники или писатели после долгих блужданий наугад, когда чувствуют себя поглощенными рутиной и понимают, что могут отныне быть свободными и самостоятельными, устанавливать свои правила, и он исправлял песни группы «Битлз».
Чтобы быстрее попасть в центр, Мэйбилин проделывала один фокус, но он не всегда срабатывал. Когда она выходила от квартирной хозяйки, спускалась по ступенькам, открывала дверь и выходила на улицу, ее сосед, с которым у них совпадали графики, выводил из гаража свой автомобиль. Автобусная остановка находилась как раз напротив, на другой стороне улице, а Мэйбилин как бы случайно бросала: «Do you know what time next bus is?»[60] — при этом она прекрасно понимала, что он не оставит ее на пустой остановке, а тотчас пригласит сесть в машину: «Oh, you’re going downtown? Well, I can drop you off if you want…»[61] — это был ритуал, и всякий раз ему удавалось придать удивленное выражение. Но иногда она выходила слишком рано или уже поздно, а порой сосед имел столь сосредоточенный вид, был буквально погружен в себя, что она не осмеливалась его прервать или он сам говорил, словно извиняясь: «I’m sorry, I’m afraid I’m driving to Newmarket today…»[62] И тогда она стояла в одиночестве, как взрослая, на остановке и ждала автобуса.