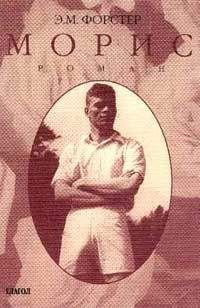Оставшись один, Кокос сразу перестал рыдать. Слезы были всего лишь методом мольбы, который не сработал, а утешение в горе и одиночестве надо искать иначе. Больше всего ему хотелось забраться на верхнюю койку, к Лайонелу, свернуться там и ждать его прихода. Но он не смел. На что-то другое он решился бы, но только не на это. Это запрещено, хотя вслух ничего никогда не было сказано. Это было таинственное место, священное место, откуда струилась сила. Он обнаружил это в первые полчаса плаванья. Это было лежбище зверя, который может отомстить. Поэтому он оставался внизу, на своей безопасной койке, куда его любимый уже никогда не вернется. Казалось благоразумным работать и делать деньги, поэтому он взялся за счета. Еще благоразумнее казалось лечь спать, поэтому он отложил гроссбух и лежал без движения. Его глаза были закрыты. Его ноздри подергивались, словно откликаясь на что-то, к чему все тело оставалось безучастным. Он укрылся платком, ибо среди его многочисленных суеверий было и такое: опасно лежать обнаженным, когда ты один. Жадная до всего, что видит, явится ведьма с ятаганом, и тогда… Она уносит с собой человека, когда тому кажется, что он легче перышка.
Оказавшись на палубе со своей трубкой, Лайонел начал обретать равновесие и чувство превосходства. Он был не один: под звездным небом спали пассажиры, вытащившие свои постели на палубу. Они лежали ничком там и сям, и ему пришлось осторожно пробираться к фальшборту. Он успел позабыть, что такая миграция происходит каждую ночь, как только корабль вступает в Красное море. Ведь сам он проводил ночи по-другому. Вот лежит бесхитростный субалтерн с наливными щеками; а вот — полковник Арбатнот, выставив зад. Миссис Арбатнот спала врозь со своим супругом, в женском отделении. Утром, очень рано, стюард разбудит сагибов и отнесет их постели в каюты. То был старинный ритуал — не применявшийся ни на Ла-Манше, ни в Бискайском заливе, ни даже в Средиземном море — и Лайонел тоже принимал в нем участие в предыдущих плаваниях.
Какими порядочными и надежными они казались — люди, к которым он принадлежал! Он был рожден одним из них, он с ними трудился, он намеревался взять себе в жены одну из них. Если он утратит право общаться с ними, то он превратится в ничто и никто. Темная ширь моря и подмигивающий маяк помогли ему успокоиться, но благотворнее всего подействовал вид мирно спящей братии равных. Он любил свою профессию и возвысился в ней благодаря той маленькой войне; безрассудно рисковать карьерой, но именно этим он занимался с Гибралтара, когда выпил слишком много шампанского.
Он вовсе не был святым, нет — от случая к случаю навещал бордели, чтобы не выделяться из офицерской среды.
Однако он не был так озабочен сексом, как иные его сослуживцы. У него не было на это времени: к воинскому долгу добавлялись обязанности старшего сына; доктор сказал, что периодические поллюции не должны его беспокоить. Впрочем, не спите на спине. Этой простой установке он следовал с начала полового созревания. А в течение последних месяцев он пошел еще дальше. Узнав о своем назначении в Индию, где его ждала встреча с Изабель, он стал относиться к себе с большей строгостью и соблюдал целомудрие даже в мыслях. И это было самое малое, что он мог сделать ради девушки, на которой собирался жениться. Он отказался от секса полностью — и от этого лишь почувствовал неодолимую тяжесть. Проклятый Кокос сыграл с ним злую шутку. Он разбудил столько всего, что могло бы спать.
Ради Изабель, ради своей карьеры он должен немедленно прекратить опасные отношения. Он не стал задумываться, как он до этого докатился и почему так сильно увлекся. В Бомбее все кончится, нет, все кончится сейчас же, и пусть Кокос обревётся, если думает, что это поможет. Итак, все прояснилось. Но за Изабель, за армией стояла другая сила, о которой он не мог рассуждать спокойно: его мать, бельмо в центре сплетенной ею паутины — с цепкими нитями, раскинувшимися повсюду. Ей бесполезно объяснять — она ничего не понимает, но держит под контролем все. Она слишком много страдала и чересчур надменна, чтобы о ней можно было судить, как обо всех прочих, она живет вне чувственности и неспособна понять и простить. Давеча, когда Кокос завел о ней разговор, он старался вообразить, как она и отец наслаждались ощущениями, в которых сам он только начал открывать радость, но это показалось ему кощунственным, и он испугался своих мыслей. Из огромной девственной страны, в которой она обитала, послышался голос, осуждавший его и всех ее детей за грех, но его больше прочих. С ней бесполезно вести переговоры — ведь она и есть этот голос. Господь не наградил ее слухом, и видеть она, к счастью, не могла: зрелище раздевающегося донага сына ее бы убило. Он, ее первенец, призван восстановить доброе имя семьи. Его выживший брат — никчемный книжный червь, остальные двое детей девочки.
Он сплюнул за борт. И обещал ей: «Больше никогда». Слова пали в ночь, как заклинание. Он произнес это вслух, и полковник Арбатнот, у которого был чуткий сон, приподнялся на постели и зажег ночник.
— Эй, кто там, что случилось?
— Это Марч, сэр, Лайонел Марч. Боюсь, я разбудил вас.
— Нет, нет, Лайонел, все в порядке, я не спал. О боги, что за пижама на этом парне? А что это он бродит, словно одинокий волк? А?
— В каюте очень душно, сэр. Ничего особенного.
— Как поживает черномазый?
— Черномазый спит.
— Кстати, как его зовут?
— Кажется, Мораес.
— Точно, некий господин Мораес замешан в одной нехорошей истории.
— Да? А в чем дело?
— В том, как он попал на борт. Леди Мэннинг только что узнала, и по ее словам получается, что он дал кому-то в лондонской пароходной конторе на лапу, чтобы попасть на переполненный корабль, и его, не долго думая, поместили к вам в каюту. Мне дела нет до тех, кто берет и дает взятки. Они меня совершенно не интересуют. Но если в пароходной компании считают, что можно так обращаться с британским офицером, то они ошибаются. В Бомбее я собираюсь поднять шум.
— Вообще-то, он мне ничем не досаждает, — помолчав, сказал Лайонел.
— Не хватало, чтобы он досаждал! Тут вопрос нашего престижа на Востоке, и вам выпало тяжкое испытание — очень тяжкое, друг мой. А не хотите ли поспать на палубе, как остальные из нашей шайки?
— Отличная мысль. Непременно.
— Видите: нам удалось отгородить часть палубы, и горе тому черному, кто зайдет сюда, даже если это черный таракан! Покойной ночи.
— Покойной ночи, сэр. — Затем что-то сорвалось, и он услышал собственный крик: — Дерьмо проклятое, отстань от человека.
— Х-р-р… Что? Я не расслышал, — сказал озадаченный полковник.
— Ничего сэр, простите, сэр.
И он возвратился в каюту. Как могло случиться, что он чуть было не выдал себя, словно так и надо? Кажется, рядом витал злой дух. В начале путешествия он подговаривал его броситься за борт без всякой причины, но сейчас все гораздо серьезнее. «Когда вернешься — это уже будешь не ты», — сказал Кокос; так ли это?
Нижняя койка почему-то была пуста, видимо, парнишка пошел в уборную. Лайонел вылез из женской пижамы и приготовился закончить ночь там, где он был свой. Хороший сон приведет его в душевное равновесие. Он оперся локтем об раму, оттолкнулся ногой, и только тогда увидел, что произошло.
— Привет, Кокос. Решил для разнообразия поспать на моей койке? — спросил он отрывистым офицерским тоном, поскольку не хотелось поднимать шум. — Оставайся здесь, если хочешь, я все равно перебираюсь на палубу. — Ответа не последовало, но ему так понравилась своя последняя фраза, что он решил ее усилить. — Кстати, в каюте я буду появляться только в случае крайней необходимости, — продолжал он. — До Бомбея осталось три дня хода, так что нет проблем, а после высадки на берег мы больше не увидимся. Как я уже сказал, все случившееся было ошибкой. Лучше бы нам… — Он замолчал. Только бы не дать слабинки! Но разговор с полковником и контакт с матерью это предотвратили. Он обязан держаться своего народа, иначе погибель. — Прости, что пришлось сказать все это.
— Поцелуй меня.
После его бесцеремонности и вульгарности эти слова прозвучали удивительно спокойно, и он не смог сразу ответить. Лицо друга приблизилось к нему, тело соблазнительно изогнулось во тьме.
— Поцелуй меня.
— Нет.
— Не-а? Нет? Тогда я тебя поцелую.
И он припал губами к его мускулистой руке и укусил. Лайонел вскричал от боли.
— Поганая сука, погоди же… — Меж золотистыми волосками выступила кровь. — Погоди же…
И шрам в паху вновь открылся. Каюта исчезла. Он опять сражался с дикарями в пустыне. Один из них просил пощады, путаясь в словах, но ничего не добился.
Наступила сладостная минута мщения, сладостнее которой не было для них обоих, и когда экстаз перешел в агонию, руки его обхватили глотку. Никто из них не знал, когда наступит конец, и Лайонел, осознав, что он наступил, не испытал ни жалости, ни печали. То было частью кривой, уже долго клонившейся вниз, и не имело ничего общего со смертью. Он вновь согрел его своим теплом, поцеловал сомкнутые веки и накинул цветной платок. Потом опрометью выбежал из каюты на палубу и голый, с семенами любви на теле, прыгнул в воду.