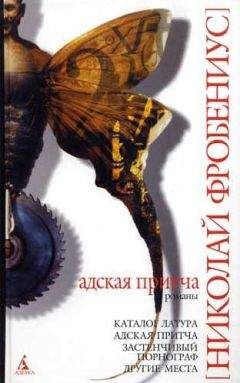Девушка на полу улыбнулась ему.
Забродского теперь развлекала ее товарка – тоже нагая, с обвислой грудью, но видимо сноровистая, поскольку привередливый обычно Забродский не выказывал никакого неудовольствия. Проворная девица старалась вовсю, не обращая внимания на Машкова. Липкий фонтанчик ударил едва ей не в лицо. Цыганка рассмеялась, смех ее прозвучал хрипло.
Бестии, сраму не имут, подумал Машков и прошел мимо них к столу. Поискал среди бутылок не початую.
– Что ты мрачен так, Машков! Туча прямо, а не человек. С таким лицом в монастырь только!
И засмеялся. Девушка рядом с ним, засмеялась тоже.
– Принеси и мне вина, товарищ! – попросил Забродский, протягивая руку в драматическом жесте.
– Не принесу, не проси! – сказал Машков, поворачиваясь к нему.
Земфира сопела у его ног, отыскивая закатившуюся монету.
– Смотри, смотри! – показал на нее пальцем Забродский. – Она тебя любит, Машков!..
Так почему же ты не хочешь сделать одолжение старому товарищу?! Представь, к примеру, что я ранен в сражении и не могу встать!
Да потому не хочу, что гусь свинье не товарищ, подумал про себя Машков, но вслух говорить не стал.
– Если бы ты был ранен, – сказал он, – это было бы совсем другое дело!
– Эх, Машков! – огорчено сказал Забродский. – Истинно говорю тебе – есть в тебе нечто поповское!
Сбоку в глубине дома, что-то разбилось. Все тот же мальчишка пробежал через комнату – побежал собирать осколки. Здесь, повсюду в темноте все еще сплетались тела, пахло табаком и вином, и еще стоял особенный аромат разврата, круживший голову.
Варя по-прежнему возлежала на постели – ожидала его, едва прикрыв бедра простыней. Сама того, не зная, приняла позу Данаи. Цыганская Даная, а Машков, выходит, цыганский Зевс.
Грызла яблоко, глядя на него выжидающе. Была у нее какая-то власть. Смешно, думал он глядя на нее – какая у нее может быть власть. В колдовство цыганское он не верил, басни все, глупости. Если чем и приворожила она его, то телом своим, да умелыми ласками. И еще голосом, голос у нее был удивительный. Даже простое слово превращал он во что-то чарующее. От этого голоса кровь приливала к вискам, и хотелось обнять ее, почувствовать биение ее сердца. А иногда казалось, что и сердца у нее нет.
Губы ее пахли яблоком, вино которое он ей принес, расплескалось, пока они целовались. Варя пискнула – струйки потекли по голому телу. Машков стиснул ее левую грудь в руке, и приник с поцелуем к торчащему соску. Девушка запрокинула голову, разглядывая потолок. Руки Машкова переместились на ее ягодицы, он прижал ее тело к себе, продолжая покрывать поцелуями ее плечи и шею. Варя довольно замурлыкала, словно кошка, пригревшаяся на коленях у хозяина.
Спустя минуту цыганка оседлала его. Ведьма, подумал Машков – все их племя такое, привораживать умеет. И что это за танец она устраивала на нем? Честно слово, он лучше всех прочих. Машков держал руки на ее бедрах. Бедра поднимались и опускались. Быстрее, быстрее.
Волосы спадали ей на лицо. Варя не притворялась – лицо ее излучало неприкрытое наслаждение. Язычница, подумал про себя Машков, глядя на нее. Все они язычники и тут душу немудрено оставить. Варя приподнялась, изогнулась совсем неграциозно.
Он закрыл глаза, чувствуя ее пальцы там, внизу. Жемчужные капли брызнули на ее темный лобок, на смуглый живот, на грудь.
Машков не открывал глаз.
– Исцели меня, – шептал он вдруг просительно.
– Я не лекарь, – сказала она, – тебе к знахарке нужно, милый ты мой!
И не отпускала взглядом, по-прежнему сидя на его ногах. Пыталась понять, что с ним такое твориться!
– Ты знаешь, ты можешь! – сказал Машков убежденно. – Исцели.
***
Надин Золотицкая и ее покровители.
Граф Каменский Николай Федотович был покровителем Надин Золотицкой.
Старший брат Николая Федотовича – Михаил, герой русско-турецкой кампании, был при государе Павле Петровиче жалован фельдмаршалом, и как говорили злые языки, при каждом слове государя, целовал полу его сюртука. Но целование не помогло и в результате интриг, в декабре 1797 года был Михаил Федотович отправлен в отставку и уехал он к себе в Москву, где имея три тысячи душ крестьян, окружил себя невиданной роскошью, представлявшей дикую смесь из утонченных европейских эскюйств с глухой русской обрядовостью. В московском дворце графа Каменского ставились самые современные французские балеты и итальянские оперы, а после просмотра спектаклей в домашнем театре, граф Михайло Федотович мог запросто завалиться в русскую баньку, где девки в кокошниках пели ему русские обрядовые песни и водили хороводы. Дом графа был переполнен хвалителями, приживалами, потешателями, мамками, калмычками, турчанками… Одним словом, с точки зрения просвещенного англичанина – жил Михаил Федотович жизнью истинного богатого дикаря.
Совсем иных вкусов придерживался младший брат Михаила Федотовича, Николай.
Николушка Каменский с детства впитывал в себя все только западное. От французских романов, до моды на немецкое платье.
И поэтому, в отличие от братца, тёплой русской Москве предпочитал холодный, но европейский Петербург.
Николай Федотович служил в лейб-гвардии уланах, что стояли в Стрельне. Был он поручик. Денег на холостые гулянки не жалел, чем нравился офицерской братии, но к тому же, с чистой европейскостью своей, позволял себе еще содержать и дом, а в доме том – невенчанную гражданскую жену – сожительницу, которой и была хозяйка знаменитого салона – мадмуазель Золотицкая.
История Надин была просто замечательной.
Была она из графа Каменского крепостных.
За необычайно тонкую косточку, за нежный, не крестьянский овал лица, за необычайную длину стройных ножек, девочку взяли сперва в барский московский дом…
И приметив сметливый ум девочки, баре сперва определили Наденьку по домослужению в будущие горничные, и начали заниматься ее образованием и воспитанием. Вместе с отобранной дюжиной будущих особо вышколенных слуг для петербургской службы и для петербургских дворцов графов Каменских, Наденька училась грамоте, французскому и немецкому, а так же еще и литературе, риторике и математике. Однако, когда старшему из братьев удумалось будучи в отставке – заниматься домашним театром, он заставил Наденьку учиться французскому балету в домашней труппе, где балетмейстером был выписанный из Парижа мосье Жером.
Талантливая Наденька быстро освоила несложные фуэтэ, плие, порт-бе бра и сложные па-де ша… Но тут ее заметил младший брат Михаила Федотовича – Николя.
Заметил и влюбился.
А влюбившись, сперва выиграл ее у братца в карты, о потом дав девушке вольную и паспорт на фамилию Золотицкой, сперва свозил девушку в Париж, а потом вернувшись, зажил с нею в доме на углу Невского и Фонтанки.
– При государе Иоанне Васильевиче за такие проказы, граф, с вас бы голову вместе с вашими роскошными кудрями сняли, – сказал поручику уланского полка Николаю Федотовичу его командир, полковник Кампенгаузен, когда поручик Каменский вернулся из Парижа, где пребывал в отпуске на лечении, – на грани приличий живете, на грани!
Сказал и погрозил поручику пальцем.
Однако в доме, которым формально управляла мадмуазель Золотицкая, а фактическим хозяином которого был младший Каменский, любили бывать влиятельные особы. И не считаться с этим было нельзя. Здесь даже бывал господин Сперанский, который был воспитателем молодых наследников – Александра и Николая Павловичей. Господину Сперанскому нравилась обстановка салона и нравились беседы, которыми умело управляла умная Надин. И Державин Гаврила Романович – тоже бывалс… Бывалс здесь. И главный государев советник по тайным канцеляриям – граф Безбородко – тоже сразу внедрил сюда – в салон златокудрой и голубоглазой Надин своих шпиёнов.
А внедрив, посоветовал государю не наказывать расшалившегося и высунувшегося сверх меры юного уланского поручика, а использовать салон его содержанки, как место, где можно наблюдать… Наблюдать и поджидать, покуда враги русской короны проявятся.
Так и обросла балерина Наденька – покровителями.
И салон ее – славился отныне по Петербургу духом вольнодумства.
Ведь здесь можно было даже обсуждать и конституционную будущность России, и освобождение крестьян от рабства, что просто неприлично было для России – в соседстве с просвещенными европейскими державами… Именно так говорил господин Сперанский… И именно этому, оказывается, учил он наследников – Александра Павловича, Константина Павловича и Николая Павловича…
Но можно было здесь говорить не только о политике, но и о свободных европейских нравах. О гражданских невенчанных браках, о свободе женщин – выбирать себе любовников и быть "эмансипэ"…
Однако, однажды, свободный оазис свободного европейского слова едва не пал жертвою декларированных в нем свобод.