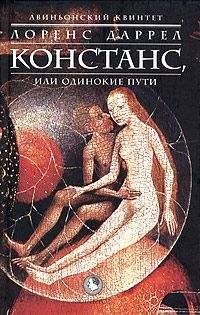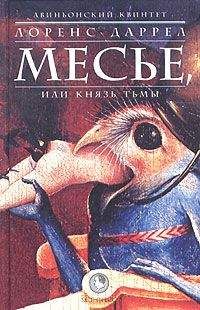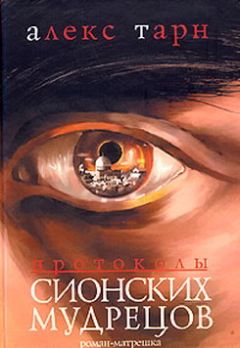Бэнг! Звук был до того громкий, что вскочили и любовники, и Хилари с Чатто, которые спали на походной кровати в кухне.
— Какого черта! — воскликнул Сэм.
Неужели бомбят город? Кто? Бэнг! От этого второго удара они вполне проснулись и уже смогли понять, с какой стороны слышен шум. Он доносился из густого леса наверху, куда они как-то ходили в дубровник за трюфелями. Однако кому удалось втащить пушку на такую высоту, да и зачем? Certes,[27] весь Авиньон лежит внизу за рекой, там и Вильнев поворачивает толстые щеки своего замка влево. Похоже было на легкий миномет, вот только ему никто не ответил, да и самолетов не было слышно. Донельзя удивленные и ничего не понимавшие, они принялись варить кофе и задавать друг другу вопросы.
— Надо подняться наверх и посмотреть, — с некоторым испугом проговорил Хилари. Влажный серый рассвет пробивался сквозь лес.
— Правильно, — отозвался Сэм.
Они продолжали пить кофе, и за это время невидимая артиллерия сделала еще два выстрела. Тогда они спешно заперли кухню с кофе и едой на засов и стали подниматься на невысокую, но крутую вершину холма. Это заняло примерно четверть часа, однако когда они наконец оказались на зеленой площадке, то обнаружили всего лишь старую paragrele,[28] которая стреляла густо просоленными снарядами по черным неподвижным тучам. Около нее суетились два старика, которые и заряжали, и сами же стреляли из своей малютки — снаряды летели со свистом вверх, где тучи были разбухшими, словно кошельки, набитые дождем. Через полчаса трюк сработал, и легкий дождь, словно дымка, оросил склон. Один из старых крестьян откупорил бутылку eau de vie[29] и пустил ее по кругу после удачного завершающего выстрела. Промокшее солнце отчаянно сражалось с тучами, отчего лица становились то серыми, то желтыми. Все чокнулись, и тут один из стариков произнес как бы между прочим:
— Они вошли в Польшу! L'apres-midi, c'est la guerre.[30]
Тучу наконец-то прорвало.
Земли, которыми владели фон Эсслины, тянулись вдоль моря в безлюдной части Фрисландии и никогда не распространялись внутрь страны. Таким образом, им доставались промозглые ветры и отвратительная погода, но похвалиться ее живописной красотой и освежающей неподвижностью влажного серого неба они не могли. Здесь были солончаки, бедные солончаки, окруженные невысокой грядой, которая придавала им обманчивые очертания и намекала на их скудость и на тяготы, которые терпели возделывавшие эти земли люди. Горы словно хмурились, а жирной желтоватой глине не хватало извести, отчего она плохо поддавалась плугу и не могла вынашивать хорошие урожаи. Зиму здесь ждали чуть ли не с радостью, и земля вновь погружалась в таинственную тишину среди заледеневших канав и прудов, где многолетний пырей с замороженными травинками выставлял свои армии фехтовальщиков. По ночам шумела капель, и деревья сбрасывали с веток сосульки. С начала семнадцатого столетия эти земли принадлежали им, фон Эсслинам, с тех пор как первый фон Эсслин — тоже Эгон — стал профессиональным воином, заслужил некоторый почет и получил небольшое состояние, благодаря удачной женитьбе. Большое уродливое феодальное поместье исхитрилось сохранить две нелепые башни и небольшой ров, в котором теперь плавали утки. Дом был неудобным, к тому же холодным, сколько его ни отапливай. Да и подобно большинству семейств, то ли считающихся, то ли не считающихся аристократией меча и шпаги, фон Эсслины постоянно испытывали финансовые затруднения. Свой доход они получали от двух гравиевых разработок и от отличной белой глины, которую продавали гончарам в Чехословакию. У старого генерала была вполне весомая пенсия, ну а жалованья самого Эгона, как он считал, хватало лишь на самое необходимое. Поэтому он не мог позволить себе влезать в карточные долги, тем более содержать лошадей и актрис, в отличие от офицерской братии, располагавшей большими средствами. Но это его не расстраивало, потому что он был серьезным благочестивым человеком, как и полагается католику, чьи предки по материнской линии жили в Баварии. В целом семейство представляло собой юнкерскую породу, и, соответственно, отличалось некоторой закоснелостью и мракобесием. Но члены семейства имели одну слабость, скажем так, сезонную слабость, — к музыке, которая каждый год перемещала их в Вену, в любимую столицу, где у фон Эсслинов были апартаменты с прелестным видом на знаменитый лес. Увы, Гартнер, родовое гнездо в деревне с тем же названием, внушал уныние, но никак не любовь. И так как теперь мать проводила там чуть не весь год, фон Эсслин ощущал некоторый стыд и неловкость: ведь он почувствовал почти радость, когда настало время исполнить воинский долг, это позволило ему без угрызений совести покинуть постылый дом.
Такими были не до конца сформулированные мысли и не совсем осознанные чувства солдата, сидевшего в приземистом служебном автомобиле, быстро двигавшемся вдоль дюн то на север, то на восток, где изредка о чем-то вздыхало в летней тишине море и где хрупкие лилии раскрывали чашечки; ему удалось, благодаря особым уловкам, добиться неслыханной роскоши — суточного отпуска; и это в то время, когда абсолютно всё — всё оружие и все люди находились на польской границе. В преддверии предстоящих событий ему хотелось попрощаться с матерью — никто ведь не знал, где окажется, куда приведут решения фюрера. Уже несколько дней по телефонам передавали лишь военные сообщения, однако фон Эсслину удалось послать матери весточку — помог коллега, находившийся несколько севернее, откликнулся на его просьбу и отправил к ней курьера-мотоциклиста. Значит, мать должна ждать его в поместье, как всегда сидя у дальней стены длинного зеленого салона с книгой на коленях и улыбкой на губах. Когда он приезжал, то заставал ее в этой неизменной позе — предполагавшей, что все хорошо, все спокойно и не надо волноваться о хозяйстве. Горничная-полька, по обыкновению не произнося ни слова, откроет дверь и молча поклонится ему с робкой улыбкой на смуглом лице. Нет, все же… им ведь есть о чем поговорить. События сменяли друг друга с такой скоростью, что люди чувствовали, будто их сорвали с давно насиженных мест и, как ни старались, не могли угнаться за происходящим. Пока еще мир не был окончательно сражен — но напоминал впавшего в бесчувствие больного, истекавшего кровью на операционном столе, уже безнадежного…
Лето выдалось на редкость жарким: только представьте, теплый дождь в августе! Была настоящая парилка; и вот наступила пора урожая — с ясным голубым небом и умеренной солнечностью. (Идеальная погода для польского похода.) Фон Эсслин нахмурился и пригладил кончики коротких усиков, заметив дом в конце длинной дороги, петляющей между стройными липами. «Вот и мой дом» — он мысленно повторил эту фразу, однако ощутил не радость, а обоснованные в его положении беспокойство и любовь к матери, которую он берег в своем сердце. Сын и мать были довольно близки, однако их общение затрудняла смертельная робость; любой, кто услышал бы их беседу, решил бы, что они едва знакомы — настолько в их речах отсутствовала всякая живость, тем более страстность. И эта робость еще более усилилась с тех пор, как они остались одни, после того, как не стало его сестры Констанцы (они были близнецами) и отца-генерала. Старик боготворил Констанцу и не смог оправиться после ее смерти; он зачах, как старый мастифф; во всех гостиных он развесил те ее фотографии, на которых она была еще молодой женщиной, снятой до того, как вяло текущая болезнь — склероз — дала о себе знать. До чего же прелестной была Констанца; сам Эгон тоже впал в отчаяние из-за ее жестокой участи. Сын и мать никогда не говорили об этом, во всяком случае очень редко и немногословно.
Зато стоило им разлучиться, все менялось, ибо тогда Эгон позволял себе теплые чувства, и вновь пробуждалась его привязанность к матери; и в своих письмах он называл ее «Katzen-Mutter».[31] Пока слова ложились на бумагу, он рисовал ее в своем сердце в виде кроткой мамы-кошечки, рядом с которой прикорнула большая сиамская кошка с переливчатой шерстью. Кошки жили в поместье и теперь, они ее обожали.
Наконец автомобиль замедлил ход возле трубы, заменившей ров с водой, после чего осторожно пересек деревянный мост и остановился перед массивной дубовой дверью, за которой уже стояла горничная-полька в ожидании звонка. Она слышала, как водитель открыл дверцу, как щелкнули каблуки, как потом генерал-майор приказал отнести чемодан в дом и быть готовым к отбытию на рассвете. За короткими, похожими на лай, приказами последовал резкий звонок. Горничная-полька открыла дверь, пробормотала, как всегда, что-то такое гортанное и, наклонив голову, присела в полупоклоне. Фон Эсслин тоже произнес нечто, отдаленно напоминавшее приветствие, и прошествовал мимо, чтобы положить фуражку на мраморный столик; он успел вновь повернуться к девушке лицом, когда она открыла дверь в зеленый салон, где мать уже поднималась с кресла с радостным возгласом.