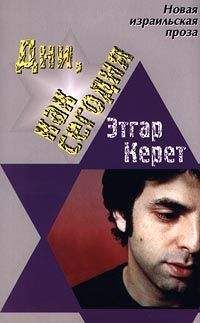— Тебя-то мне и не хватало, — сказал Симон и ухватил сына главы Мосада за рубашку. «Только тебя мне не хватало», — повторил он и вытащил из кармана пружинный нож.
Нож щелкнул, и выскочило лезвие. Сын главы Мосада закрыл глаза и покачнулся на своих длинных ногах. Симон так обрадовался, увидев, как испугался сын главы Мосада, что у него даже сразу прошла тошнота. В его голове проносились десятки идей, как бы посильнее унизить сына главы Мосада, чтобы вообще сровнять его с землей.
— Ты знаешь, — начал он врать, — Габи всегда любит рассказывать про твою маленькую штучку. Почему бы тебе не спустить штаны, чтобы я сам мог посмотреть.
После того, как Симон заставил Алекса снять штаны и трусы, он забрал у него и рубашку. Привязав всю одежду к большому камню, Симон бросил ее в Яркон. Затем он отправился домой, а наутро проснулся с ужасной головной болью.
Сын главы Мосала был вынужден плестись домой голым, и когда, наконец, вошел в квартиру, на него ошеломленно уставился отец. Глава Мосада потребовал у сына немедленных разъяснений всего, что произошло. Алекс рассказал ему о ноже и о Симоне. Отец спросил, тронул ли его Симон хотя бы пальцем, и пытался ли Алекс сопротивляться, и разделся ли Лиху тоже (поскольку сын главы Мосада забыл сказать, что Лиху остался на спортплощадке потренироваться). Закончив допрос, глава Мосада сказал: «Ладно, ты можешь пойти одеться» и, рассерженный, уселся за свой рабочий стол.
Сын главы Мосада, не одеваясь, лег в постель, укрылся одеялом с головой и начал плакать. Его мать, во время допроса молча стоявшая рядом с отцом, присела к нему на кровать и гладила его до тех пор, пока ей не показалось, что он заснул. Потом Алекс услышал, как в гостиной кричит отец — наверное, первый раз в жизни. Под одеяло проникали лишь обрывки фраз: «из-за тебя», «ни царапины», «нет, я не преувеличиваю» и «Лиху, например».
Утром, проверив патроны в обойме «беретты», глава Мосада убрал пистолет назад в ящик. Затем он отвез сына в школу. За всю дорогу, как обычно, они не обмолвились и словом. Вернувшись из школы, сын главы Мосада пообедал и сказал, что идет поиграть в баскетбол. Вечером, придя домой, он улыбнулся родителям усталой улыбкой и сказал: «И не спрашивайте, как прошел у меня день». Они и не спросили. Позднее, когда отец пошел в туалет, а мама уже спала, сын главы Мосада положил пистолет на место в нижний ящик стола. И даже если бы его спросили, он бы ни за что не ответил.
На пересечении улицы Файнберга с Пальмовым бульваром есть одна плита в тротуаре. Заметить ее очень легко: на ней такое небольшое красно-коричневое пятно и она немного выступает над другими плитами. Поэтому, когда стоишь на ней, то чувствуешь себя как бы немного выше, чем обычно, и иногда это «немного» — как раз столько, сколько не хватало.
Но я поступлю несправедливо по отношению к этой плите, если отмечу только ее внешние особенности. В ней сокрыто гораздо больше. Это та плита, стоя на которой, я единственный раз в детстве поступил, как мужчина. И поверьте мне, что плита, которая помогла боязливому и мягкотелому ребенку вроде меня вдруг поступить мужественно, должна быть чем-то необыкновенным.
Я помню тот момент, когда ступил на нее, и то изменение, которое разом во мне произошло. Я почувствовал, что сила, исходящая из этой плиты, поднимается через мои ноги и распространяется по всему телу. Весь мой страх сразу пропал. Я почувствовал, что, пока стою на ней, все, что бы я ни сказал и ни сделал, обернется успехом. Все произошло в долю секунды, но как же я изменился в этот миг! Даже мой писклявый голосок, как мне показалось, зазвучал по-другому — глубже, солиднее, он внушал уверенность.
Мне нравится думать, что это мгновенье было особым из-за плиты. Хотя я уверен, что и многие другие, встав на нее, преисполнились хладнокровия и мужества, мне все же трудно поверить, что изменения, которые произошли тогда в них, были также сильны, как и те, что случились со мной. По сей день я благодарен судьбе, что в ту минуту она решила поставить меня на эту плиту, и подумать боюсь, что было бы, встань я тогда на другую. Скажем, на плиту, что слева от нее.
Я представляю себе, что в глазах многих, кто был свидетелем того неожиданного проявления мужества с моей стороны, оно было связано с определенным моментом во времени. Такой чудесный миг, вот он есть, а вот уже и нет. Волшебный миг, которому не дано повториться. Дай Бог, чтобы и я мог так думать. Может быть тогда это чувство подавленности, которое меня постоянно одолевает, прошло бы. Но трудно не отчаяться, когда точно знаешь, что все экзамены, на которых ты провалился, неудачные собеседования при приеме на работу, безответные признания в любви могли бы закончиться совсем по-другому, если бы это все происходило на этой плите. Но кого, к черту, сейчас можно встретить на углу Файнберга и Пальмового бульвара?!
Солдаты просили у нее прощения за то, что застрелили меня. Ведь было темно, граница была рядом, и алюминиевая труба, которую я нес, показалась им стволом автомата. Если бы я только ответил на их окрики, но я, как обычно, промолчал. Юлия плакала, так красиво, так искренне, как может плакать только тот, кто в жизни знал одно лишь хорошее.
Они рассказали ей о трех пулях, что попали в меня, две из них — в основание позвоночника, о том, как я закричал от боли… Нет, мне совсем не было больно, но я решил притвориться, как и всегда, когда шептал ей «Я люблю тебя», а про себя добавлял — «Как бы не так». Так же вели себя все те женщины, которых я знал до встречи с ней.
… Слезинки скатывались по высоким скулам и нежным щекам Юлии и дальше — на изгиб точеной шеи. Один из двух офицеров, тот, что помоложе, положил руку ей на плечо, как бы желая поддержать; у нее дрогнула нижняя губа, — Юлия почувствовала его желание. Многие символы окружающего мира были понятны нам только благодаря любви: свет луны — сон, боль — реальность, и их эпицентром стала переносица моего сломанного носа. Сейчас все это для меня ничего не значит.
…Когда я был ребенком, меня часто преследовал ночной кошмар, в котором ангелы с лицами, покрытыми фурункулами, засыпали меня кучами дерьма. Мне и сегодня не нравится, что меня хоронят.
Юлия возвращается с похорон, сбрасывает плат, закрывает раздвижную дверь в кухне, затыкает щель между дверью и полом — я не могу на все это смотреть. Она открывает газ, медленно усаживается в углу, оперевшись спиной о стену, свободно распускает волосы по плечам. Через шестнадцать минут, когда она умрет, исчезнет и наша любовь. Будь я жив, я бы смеялся до слез.
Аркадий Хильвэ едет на автобусе N5
— Сукин сын, — процедил толстый и с силой ударил кулаком по скамье, на которой сидел. Аркадий продолжал рассматривать фотографии в газете, полностью игнорируя подписи к ним. Время шло медленно. Аркадий ненавидел ждать автобус.
— Сукин сын, — снова сказал толстый, на этот раз громко, и плюнул на тротуар возле ног Аркадия.
— Ты со мной разговариваешь? — спросил Аркадий, несколько удивленный, и поднял глаза от газеты, встретившись взглядом с совершенно пьяными глазами толстого.
— Нет, я разговариваю со своей задницей, — рявкнул тот.
— А, — протянул Аркадий и погрузился в газету. В ней была цветная фотография куч изуродованных тел на площади перед муниципалитетом. Аркадий продолжил листать газету в поисках раздела «Спорт».
— Я ведь с тобой говорю, ты, пидор, — толстый поднялся со скамьи и встал перед Аркадием.
— А, — повторил Аркадий, — я так и подумал вначале, но ты сказал, что…
— Неважно, что я сказал, ты, вонючий араб.
— Русский, — поспешил Аркадий спрятаться за той половиной своей семьи, которая пока не подверглась нападению. — Моя мать из Риги.
— Ну да? — проговорил толстый с недоверием, — а отец?
— Из Шхема,[9] — признал Аркадий и вернулся к газете.
— Две болезни в одном теле, — сказал толстый. — Что они еще изобретут, чтобы отобрать у нас работу?
В газете была фотография обугленных курдских карликов, вылетавших из чрева огромного тостера, и любопытный Аркадий на минуту пожалел, что дал зарок не читать подписи к фотографиям.
— Встань, — приказал толстый.
Аркадий наконец-то дошел до желанного раздела «Спорт». Там была фотография негра, висевшего на ободе баскетбольной корзины, а вокруг него в кружок танцевали десятки молодых людей, размахивавших красными флагами. Аркадий не устоял перед соблазном и пробежал глазами заголовок над фотографией: «Процесс омоложения команд «А-Поэль» вступил в высшую стадию».
— Я сказал тебе встать, — повторил толстый.
— Я? — спросил Аркадий.
— Ну не задница же моя, да — ты, — проговорил толстый.
Аркадий встал.
До того, как быть повешенным на улице Усышкина, этот негр отыграл два сезона в сборной колледжа в Северной Калифорнии — прочитал Аркадий, продолжая поступаться принципами. Было уже пять часов, а автобус еще не приехал. В речи по радио глава правительства обещал реки крови, а толстый был выше него на голову. Аркадий врезал толстому коленом в пах и сразу добавил обрезком железного прута, который прятал в газете. Толстый упал на землю и завыл: «Арабы! Русские! Спасите!» Аркадий вломил ему еще разок прутом по башке и снова уселся на скамью. Автобус подошел в 5.07.