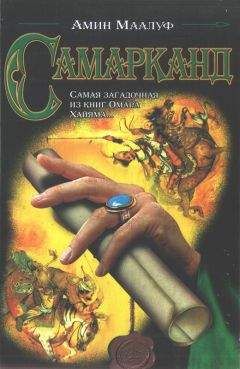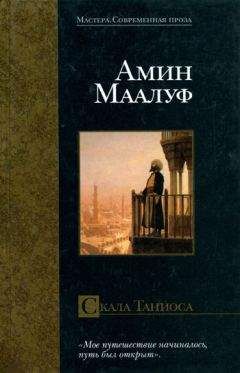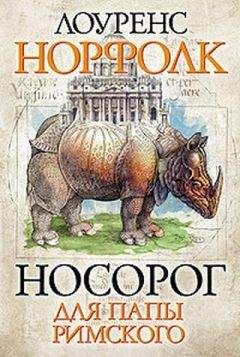В Гранаде считалось, что самый опасный период в жизни младенца — тот, что следует за отнятием от груди, к концу первого года жизни. Многим детям, лишившимся материнского молока, не удается выжить, и потому вошло в обычай вешать им на шею амулет из яшмы и талисманы в кожаных мешочках, иногда содержащие таинственные надписи, предохраняющие от сглаза и болезней; один из талисманов, «волчий камень», по поверью, позволял даже приручать диких зверей, на головы которых его водружали. В те времена, когда не редкостью было повстречаться с разъяренными львами в окрестностях Феса, мне случалось сожалеть о том, что у меня под рукой нет этого камня, хотя и не думаю, что осмелился бы настолько приблизиться ко льву, чтобы положить талисман на его гриву.
Правоверные склонны считать эти обычаи не соответствующими установлениям веры, однако и их дети часто носят амулеты, ибо им редко удается переубедить жен или матерей не делать этого.
Да и сам я — к чему отрицать? — никогда не расставался с кусочком яшмы, который матушка купила у Сары накануне моего первого дня рождения и на котором начертаны каббалистические знаки, кои мне так и не довелось расшифровать. Не думаю, что этот амулет наделен какой-либо волшебной силой, но человек так уязвим перед лицом Судьбы, что ему не остается ничего иного, кроме как привязаться к предметам, облеченным в магическую оболочку.
Упрекнет ли меня однажды в моей слабости Господь, создавший меня таким?
ГОД АСТАГФИРУЛЛАХА
896 Хиджры (14 ноября 1490 — 3 ноября 1491)
Шейх Астагфируллах был узкоплеч, зато носил широченный тюрбан, а голос его был хриплым, как у всех проповедников; в этот год его жесткая, с красным отливом борода начала седеть, придав его угловатому лицу выражение неутолимого гнева, который станет его единственным багажом, когда пробьет час изгнания. Больше не будет он красить волосы и бороду хной — так решил он в минуту усталости, и горе тому, кто спросит у него почему: «Когда Создатель призовет тебя к себе и поинтересуется, чем ты занимался во время осады Гранады, осмелишься ли ты признаться ему, что украшал себя?»
По утрам в час утренней молитвы поднимался он на крышу своего дома, одну из самых высоких в городе, но не для того чтобы созвать верующих на молитву, как было долгие годы, а чтобы разглядеть вдали предмет своего праведного гнева.
— Смотрите, — взывал он к едва очнувшимся ото сна соседям, — там, по дороге в Лоху, возводится могила для вас, а вы спите и ждете, пока вас всех не перебьют! Ежели Господь позволит открыть вам глаза, чтобы вы прозрели, придите, взгляните на эти стены, что за один день вознеслись по воле Иблиса Лукавого!
Вытягивая руку с точеными пальцами в сторону запада, он указывал на крепостной вал Санта-Фе, который католические короли начали возводить весной и который к середине лета уже походил на стену вокруг города.
В этой стране, где мужчины давно уже обзавелись мерзкой привычкой ходить по улицам с непокрытой головой или с небрежно наброшенным на волосы платком, который в течение дня сползал им на плечи, грибообразный силуэт Астагфируллаха был узнаваем издали. Немногим горожанам было известно его настоящее имя. Поговаривали, будто собственная мать наделила его насмешливым прозвищем по причине диких криков, которые он издавал уже в младенчестве, всякий раз как перед ним возникало что-то или кто-то, вызывавшее в нем протест своей непотребностью. «Молю Господа о прощении! Астагфируллах!» — вопил он при одном упоминании о вине, убийстве или каком-либо предмете женской одежды.
Было время, его поддразнивали — кто беззлобно, а кто и всерьез. Мой отец признался мне, что задолго до моего рождения по пятницам, как раз перед началом торжественной пятничной молитвы, встречался с друзьями в книжной лавке неподалеку от Большой Мечети, и они заключали пари: сколько раз во время проповеди шейх произнесет свое любимое выражение. Цифры колебались от пятнадцати до семидесяти пяти, и на всем протяжении проповеди один из друзей старательно вел счет, перемигиваясь с остальными.
«Однако во время осады Гранады никто больше не потешался над причитаниями Астагфируллаха, — продолжал свой рассказ отец, задумавшись о выходках юношеских лет, — многие почитали его. С годами он не утратил привычку повторять свое заветное слово и вести себя характерным для него образом, напротив, черты, делавшие его в наших глазах смешным, даже усилились. Просто изменился сам город.
Понимаешь, сынок, этот человек всю свою жизнь предрекал людям, что если они будут продолжать жить, как они жили до этого, Всевышний накажет их и в этой жизни, и в другой, он превратил несчастье в приманку. Я еще помню одну из его речей, которая начиналась примерно так:
— Направляясь сегодня утром к мечети, проходя ворота Песочной копи и Лоскутный рынок, я насчитал четыре питейных заведения — астагфируллах! — где почти не скрываясь торгуют малагским вином — астагфируллах! — и другими запрещенными напитками, названий которых я не знаю и знать не желаю».
Отец принялся изображать проповедника: то повышать голос до дисканта, то понижать до баса, верещать, обильно сдабривая речь заветным восклицанием, которое выпаливалось им так быстро, что стало совсем неразборчивым и скорее походило на междометие. Хотя было ясно, что отец несколько преувеличивает, он довольно верно передавал манеру шейха обращаться к народу:
— Неужто посещающие сии непотребные места не знают с младых ногтей, что Господь проклял и того, кто продает вино, и того, кто его покупает? Что Он проклял и того, кто его пьет, и того, кто его подносит? Они знают это, но забыли или же предпочли выпивку, превращающую человека в пресмыкающуюся тварь, Слову, обещающему Эдем. Одно из этих заведений содержит иудейка, и ни для кого это не секрет, но три других — астагфируллах! — принадлежат мусульманам. Впрочем, их завсегдатаи не являются ни евреями, ни христианами! Кое-кто из них, возможно, в данную минуту среди нас, униженно склонил голову перед Создателем, тогда как еще вчера падал ниц перед чаркой или пребывал в объятиях продажной женщины, или же, с затуманенным разумом и едва ворочая языком, святотатствовал перед тем, кто запретил вино, кто сказал: «Не приступайте к молитве, когда вы пьяны…»[12]. Астагфируллах!
Подражая проповеднику, Мохаммед охрип, и прежде чем продолжать, прочистил горло.
— Да, братья мои по вере, это происходит в вашем городе, на ваших глазах, а вам и дела нет, словно Господь не ждет вас однажды на своем Суде, чтобы сурово спросить с вас за поступки ваши. Словно Господь станет помогать вам в борьбе с врагами, когда вы позволяете попирать Его слово и слово Его Посланника, да отблагодарит его Господь! Когда по шумным улицам вашего города прогуливаются женщины, не скрывая лица и волосы под покрывалом, выставляя их напоказ похотливым взглядам сотен мужчин, не все из которых, я полагаю, приходятся им мужьями, отцами, сыновьями или братьями! Зачем бы Господу ограждать Гранаду от опасности, подстерегающей ее, если в повседневной жизни ее обитателей возобладали обычаи невежественных времен, доисламские нравы, как, например, причитания на похоронах, гордыня, обожествление идолов, вера в предзнаменования, преклонение перед реликвиями, награждение друг друга прозвищами, против чего Всевышний ясно предостерег нас? — Отец бросил на меня хитрый взгляд и, не переводя дыхания, продолжил: — Если вы устанавливаете в своих жилищах, невзирая на запрет, мраморные статуи и фигурки из слоновой кости, кощунственным образом воспроизводящие мужчин, женщин и животных, словно Создатель нуждается в помощи своих собственных созданий для завершения своего дела. Если в ваши умы и умы ваших сынов закралось губительное и нечестивое сомнение, отдаляющее вас от Создателя, Его Книги, Его Посланника на земле и Общины Верующих, сомнение, которое разъедает стены и сами основания Гранады?
По мере того как отец продолжал, его тон становился все менее наигранным, жесты — менее нарочитыми, а восклицания — более редкими:
— Когда вы без счету и без зазрения совести расточаете на удовольствия суммы, которые могли бы помочь утолить голод тысячам бедняков и вернуть улыбку тысячам обездоленных. Когда вы ведете себя так, словно дома и земли, которыми вы распоряжаетесь, ваши, хотя все принадлежит лишь Всемогущему, Ему одному, исходит от Него и вернется к Нему в свой час, когда Он пожелает, как и сами мы вернемся туда, откуда явились, не захватив иного богатства, кроме савана и добрых дел. Богатство, братья мои по вере, не измеряется тем, чем владеешь, а тем, без чего можно обойтись. Бойтесь Бога! Страшитесь Его! Страшитесь Его, когда вы стары, но и когда молоды! Страшитесь Его, когда вы слабы, но и когда сильны! Если вы сильны, страшитесь его еще пуще, ибо по отношению к сильным Бог еще более безжалостен. И знайте, взгляд Его так же легко проникает сквозь величественную стену дворца, как и сквозь глинобитную стену лачуги. И что же предстает его взору во дворцах? — В этом месте тон моего отца изменился и стал походить на тон репетитора из школы грамоты, а голос стал бесцветным, при этом глаза неподвижно уставились вдаль, как у сомнамбулы.