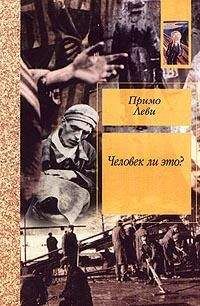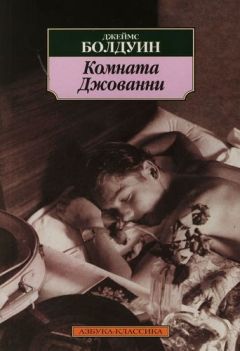Состав еле полз. Уже в сумерках мы проехали несколько темных, по всей видимости, брошенных деревень; потом спустилась ночь, все вокруг погрузилось в непроглядную черноту. Мороз усилился, и, если бы вагон так не трясло, мы бы заснули, чтобы никогда уже не проснуться. Казалось, дорога будет продолжаться вечно, но наконец поезд остановился на темном глухом полустанке. Было, наверно, часа три. Покидать вагон никто не собирался: грек бредил, кому-то было уже все равно, кто-то боялся отстать, кто-то надеялся на скорое отправление. Я вышел из вагона один и долго блуждал в потемках, пока не заметил огонек. Оказалось, это телеграф. Внутри было полно народу, в печке горел огонь. Боязливо, как бездомный пес, готовый броситься прочь при первом угрожающем жесте, я вошел внутрь, но никто не обратил на меня внимания. Я положил на пол свои жалкие пожитки, опустился рядом и моментально, по лагерной привычке, заснул.
Когда я проснулся, начинало светать: значит, я проспал несколько часов. Вокруг никого не было. Телеграфист, увидев, что я открыл глаза, положил возле меня на пол огромный ломоть хлеба с сыром. Я еще не пришел в себя после сна на холодном полу в неудобной позе и настолько удивился, что даже не поблагодарил его, а молча проглотил еду и вышел. Состав стоял на прежнем месте. Мои товарищи уже совсем закоченели в ледяном вагоне, но, увидев меня, очнулись, зашевелились, и только югослав продолжал сидеть в прежней позе: от холода и долгой неподвижности у него онемели ноги. Мы принялись его растирать, но каждое наше прикосновение доставляло ему такую боль, что он криком кричал. Пришлось немало повозиться, чтобы вернуть подвижность его телу, напоминавшему в эту минуту заржавевший, поврежденный механизм.
Для каждого из нас это была ужасная ночь, возможно, самая ужасная на всем пути домой. Я поговорил с греком, предложив ему заключить союз. Он согласился, что бездействовать ни в коем случае нельзя: второй такой ночи нам уже не пережить. Думаю, грек из-за моей ночной отлучки несколько переоценил мои способности и решил, что я ловкач и пройдоха, débrouillard et démerdard, как он изволил тогда выразиться. Что касается меня, честно притаюсь, я возлагал большие надежды на его огромный мешок и на его происхождение из Салоник; последнее обстоятельство, и об этом в Освенциме шал каждый, безошибочно свидетельствовало об умении разбираться в тонкостях торговли и выпутываться из любых ситуаций. Симпатия (взаимная) и уважение (с моей стороны) появились позднее.
Поезд тронулся. Мы долго ехали и наконец приехали в город под названием Щакова. Здесь польский Красный Крест организовал пункт по раздаче горячей пищи: миску довольно наваристого супа давали каждому желающему в любое время дня и ночи. Даже в самом фантастическом сне никому такое и привидеться не могло (как и явление с противоположным знаком — лагерь). Не помню, как вели себя мои товарищи, сам же я продемонстрировал такую ненасытную прожорливость, что польские сестры, наверняка уже привыкшие к оголодавшим посетителям, глядя на меня, крестились.
Наш злосчастный поезд отправился лишь во второй половине дня, а уже к вечеру новая остановка. Мы с греком вылезли из вагона и пошли к паровозу узнать, что случилось. Вдалеке розовели на закатном солнце колокольни Кракова. Измученный, перемазанный сажей машинист, стоя по колено в снегу, сражался с паром, который выбивался длинными струями откуда-то снизу. «Машина капут!» — не вдаваясь в подробности, сказал он нам.
Итак, час пробил. Мы ведь уже не рабы, не заключенные, не подконвойные; мы — свободные люди. Грек после миски горячего супа в Щакове чувствует прилив сил.
— On у va?[7]
— On у va.
Мы покидаем поезд и своих озадаченных попутчиков, с которыми нам больше никогда не доведется встретиться, и отправляемся пешком на, возможно, безуспешные поиски Цивилизованного сообщества.
Подчинившись его настойчивым требованиям, я взваливаю себе на спину уже упоминавшийся выше мешок.
— Это же твои вещи! — пробую я протестовать.
— Вот именно! Я их добыл, а тебе нести. Разделение труда называется. Скоро сам убедишься, насколько это удобно.
Мы идем по укатанной зимней дороге: он впереди, я сзади. Заходит солнце. Туфли грека я уже описывал, у меня же на ногах были диковинные ботинки, какие в Италии я видел только у священников: высокие, до лодыжек, из тончайшей кожи, без шнурков, но с массивными пряжками и двумя язычками эластичной материи по бокам, чтобы плотнее облегали ногу. Еще на мне было четыре пары лагерных штанов, полотняная рубашка и полосатая куртка хефтлинга. В мешке я нес одеяло и пустую картонную коробку, в которой еще недавно лежало несколько кусков хлеба. Увидев мое имущество, грек даже не попытался скрыть презрения.
Мы считали, что до Кракова рукой подать, и ошиблись: нам пришлось топать километров семь, не меньше. Через двадцать минут пути моим ботинкам пришел конец: у одного подметка совсем отвалилась, у другого собиралась отвалиться. Грек хранил упорное молчание до тех пор, пока я не сбросил мешок и не присел на придорожный столбик, чтобы оценить степень постигшей меня катастрофы. Тогда он спросил:
— Сколько тебе лет?
— Двадцать пять, — ответил я.
— А профессия у тебя какая?
— Я химик.
— Дурак ты, а не химик, — спокойно сказал он. — У кого нет ботинок, тот дурак.
Он был великим человеком, грек. Ни разу в жизни, ни до, ни после, ни одно суждение так не поражало меня своей мудрой простотой и неоспоримостью. Истинность этого суждения не нуждалась в доказательствах, она была очевидна: на мне — бесформенные ошметки, на нем — сверкающие великолепием туфли. Что я мог сказать в свое оправдание? Едва освободившись из рабства и ступив на путь свободы, я уже на обочине: сижу с идиотским видом и сжимаю руками голые ступни. От меня не больше пользы, чем от сломавшегося паровоза, который мы оставили. Спрашивается, заслуживаю ли я свободы? Грек в этом, похоже, сомневается.
— …но у меня была скарлатина, высокая температура, я лежал в лазарете, а обувной склад находился очень далеко, к нему никого не подпускали. К тому же говорили, что поляки уже все растащили. Разве я не вправе был думать, что русские обеспечат нас самым необходимым?
— Слова, одни пустые слова, — возразил грек. — У меня самого температура была под сорок, я день от ночи не мог отличить, но я помнил, что мне нужны башмаки и еще много чего, поэтому встал и отправился на склад разведать обстановку. Перед входом стоял русский с автоматом, тогда я зашел с другой стороны, выставил окно и залез внутрь. Вот почему у меня есть обувь и есть мешок, а в мешке есть то, что может в дальнейшем пригодиться. Это я называю предусмотрительностью! А ты олух, ты в облаках витаешь.
— А это не пустые слова? Может, я допустил ошибку, но сейчас главное — дойти до Кракова засветло, все равно, в башмаках или босиком! — Говоря это, я гнул окоченевшими пальцами найденную на дороге проволоку, которой пытался кое-как прикрутить подметки.
— Брось, так ничего не получится, — остановил он меня и, достав из мешка два куска парусины, показал, как намотать их поверх ботинок, после чего мы молча двинулись дальше.
Краков встретил нас мрачной безликой окраиной. На улицах ни души, пустые магазины, окна выпиты или заколочены, двери сорваны с петель. Мы дошли до трамвайного круга и увидели на рельсах трамвай. Я заколебался, ведь у нас не было денег на билет, но грек проявил решительность:
— Садимся, а там будет видно.
Минут через пятнадцать появился вагоновожатый без кондуктора, из чего следует, что грек в очередной раз оказался прав (и всегда оказывался прав в дальнейшем, кроме одного-единственного случая). Трамвай поехал, и по пути на одной из остановок в него, к нашей радости, вместе с другими пассажирами вошел француз-военнопленный. Он рассказал нам, что нашел приют в одном старинном монастыре, скоро мы будем проезжать мимо, а следующая после монастыря остановка — казарма, русские разместили там итальянских военнопленных, их очень много. Когда я услышал это, мое сердце ликующе забилось: я понял, что добрался до своих.
Как бы не так! Поляк-часовой, охранявший вход, сразу же предложил нам убираться.
— Куда? — спросил я.
— А мне какое дело? Идите, куда хотите, только подальше отсюда.
Пришлось его долго уговаривать и даже умолять, пока он наконец не согласился сходить за итальянским капралом, от которого, как мы поняли, зависела наша судьба. Все не так просто, сказал тот. Казарма набита битком, рацион ограничен, да, он понимает, что я итальянец, но ведь не военнопленный? Что же до моего товарища, то он и вовсе грек, а грекам опасно показываться на глаза тем, кто воевал в Греции и в Албании, могут и побить. Я призвал на помощь все свое красноречие, даже слезу пустил, поклялся, что мы только переночуем (а про себя подумал: главное — туда попасть), пообещал, что, хоть грек хорошо говорит по-итальянски, он без крайней необходимости и рта не раскроет. Мои аргументы были малоубедительны, я и сам это понимал; к счастью, грек хорошо разбирался в армейских порядках и знал, что они во всем мире одинаковы, поэтому, пока я говорил, он копался в мешке у меня за спиной. Потом он вдруг отодвинул меня в сторону и молча поднес к носу цербера сверкающую банку с надписью «Pork» («Свинина») и никому не нужной инструкцией на шести языках относительно того, как следует употреблять содержимое. Так мы обрели кров и ложе в ночном Кракове.