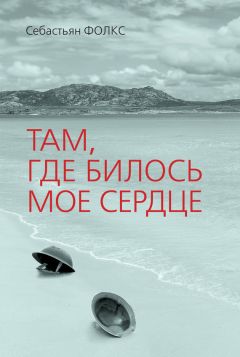Я побрел на кухню заваривать чай. Вот этому руки и ноги не противились. Вот это казалось им необходимым. Ближе к вечеру пошел в кинотеатр на Керзон-стрит смотреть трехчасовой французский фильм, он был в моем вкусе. Это когда главные герои творят что хотят, плевать им на мораль и на все эти «она (он) не нашего круга». Сигаретный дым, любовный угар, улочки провинциальных городов.
Ночью я никак не мог заснуть; организм реагировал на расставание с Аннализой. Пошел в ванную, открыл кран, чтоб запить легкое снотворное, которое сам себе назначил.
Меня, разумеется, удручала потеря и возникшая перспектива теперь уже четко обозначившегося одиночества, но назвать это душевной травмой все-таки было нельзя. Я воспринял разрыв скорее как возвращение к норме. К тому, что было всегда: мне не привыкать к одиночеству. Люди изначально одиноки, любые наши зависимости суть отклонение от нормы. Со времени моего романа с Л. прошло больше тридцати пяти лет; после войны я не испытал ни одной по-настоящему пронзительной сердечной привязанности. Так, интрижки. По физиологической надобности или ради элементарного удобства.
Итак, я учился в приличной городской школе и лет с шестнадцати начал вести дневник. Уже не первый десяток лет он лежит у меня в нижнем ящике письменного стола под грудой фотографий, которые, как только появится свободное время, я все-таки должен рассортировать и запихать в альбом. На следующий же день после ухода Аннализы я извлек дневник на свет божий.
Все всколыхнулось. Оказывается, далекое прошлое было во мне живо по-прежнему. Пока я листал исписанные черными чернилами страницы, меня вдруг настигло прискорбное откровение: еще тогда, мальчишкой, я был предрасположен к одиночеству.
В выпускном классе мне сказали, что стоит попытаться поступить в университет, на отделение классической филологии. Но для этого мне позарез нужно было выиграть стипендию, денег на оплату обучения у мамы не было. То есть требовался хороший уровень и, стало быть, дополнительные занятия. По совету директора я снял комнату у одного вышедшего на пенсию учителя. Мистер Лиддел недавно овдовел и жил неподалеку от школы. Теперь я мог сидеть за учебниками с утра до ночи. Вот так в семнадцать лет я начал жить по съемным углам. Милостивый боже, каких я только не навидался мансард, чердаков, каморок. Сколько карнизов и крыш маячило перед моими глазами. Крыши черепичные, крыши шиферные, блестящие и матовые, светлые и темные…
Дорога от школьных ворот до дома мистера Лиддела занимала десять минут на велосипеде через лесок, по выложенной камнем дорожке, обсаженной рододендронами. Моя клетушка располагалась на верхнем этаже. Железная кровать, комод и письменный стол. Окно выходило в сад, где росла плакучая лиственница, напоминавшая нечесаную собаку (есть такие породы, у которых шерсть, как веревочки на швабре). Не различишь ни ствола, ни веток, только густые свисающие космы. Эти зеленые космы ерошились от малейшего ветерка, отчего пес каждый день выглядел немного по-разному.
Будил меня утром звон колокольчика за стеной. Это мистер Лиддел дергал за шнур, пропущенный между балясинами перил до первого этажа.
— Доброе утро, Роберт.
— Доброе утро, сэр.
День начинался с Тацита. Мне полагалась чашка чая, а за ней — целый час штудирования «Истории». Лиддел выбрал Тацита нарочно, фразы у него настолько плотны и выразительны, что с грамматическим разбором всегда жуткая канитель. Зато, разогрев мозг разминкой, в школе уже на первом уроке я все ловил с лету.
После занятий все шли домой, один я отправлялся в столовую, есть яйцо вкрутую или тост с сардинами, оставленные на тарелке под жестяной крышкой; на крышке лежала карточка с моей фамилией и инициалами. Пил очень крепкий чай; поговаривали, что в него добавляют бром. Вечером я делал уроки, потом спускался на второй этаж, в хозяйский кабинет. Это была квадратная комната, вдоль стен выстроились шкафы с книгами. Окно с фрамугой, из которого открывался вид на газон и живую изгородь из лавровых кустов.
Мистер Лиддел вышел на пенсию в конце предыдущего семестра, значит, ему было лет шестьдесят пять. Но выглядел он гораздо старше. Совсем седой, морщинистый, очки в роговой оправе. Во всем облике старческая сухость, почти крошливость…
У него было два твидовых пиджака, полсеместра он носил один, потом другой. Еще через полсеместра снова менял второй на первый. Остаток вечера у нас был посвящен греческому стихосложению: Лиддел отыскивал стихотворение какого-нибудь викторианского поэта, а я должен быть преобразовать оное в оду в стиле Пиндара, используя его античную строфику. Или он предлагал фрагмент из Томаса Маколея, требуя, чтобы тот зазвучал как гекзаметр Гомера.
Я прикинул, что мистер Лиддел родился примерно в 1868 году, то есть до объединения Италии и Германии.
На уроках истории мы проходили франко-прусскую войну. В школьной программе этот этап истории был самым близким к нашей эпохе, что там было дальше, нам знать не полагалось. Осада Парижа, Парижская коммуна, полет Леона Гамбетты на воздушном шаре из осажденного Парижа в Тур…
Меня вдруг осенило, что все это происходило, когда мистер Лиддел уже жил на свете.
Потрясенный своим открытием, я однажды издалека завел разговор об истории Пруссии.
— Сэр, вам не случалось задумываться, что ход истории зачастую зависит от сущих пустяков?
Раскурив очередную трубку, Лиддел изумленно вскинул брови:
— От каких именно?
— Ну, например. Мы учили, что Бисмарк послал Наполеону Третьему оскорбительную депешу. Тот так разозлился, что объявил Пруссии войну. Бисмарку только это и было нужно. А представьте, что Наполеон просто пожал бы плечами и сказал себе: «В жизни всякое случается». И никакой войны, унижения Франции, Германской империи и Первой мировой войны.
— Все не так просто, — сказал мистер Лиддел. — Причин бывает много.
— Вы ведь уже застали все эти события, сэр?
— Да. В широком смысле слова застал. Вероятно, объединение Германии было неизбежным. Крупные страны всегда ищут способы прирастить территорию и с кем-нибудь объединиться. Для этого им обычно приходится развязывать войну.
— Разумеется, сэр, поэтому все в истории предопределено заранее.
— Что поделаешь. Существуют силы более могущественные, чем желание отдельной личности.
— Но разве в Библии не сказано, что у людей есть выбор и они сами решают, поддаться соблазну или нет? Вспомните Адама и Еву. Мы тоже можем сами выбрать добро, а не зло, поступать, как велит Христос.
Мистер Лиддел откинулся на спинку кресла. Кресло было замечательное, с боковой выдвижной полкой, на которой лежала стопка детективов. Пыхнув трубкой, он улыбнулся. Наверное, подумал, что ему платят главным образом за умение подстрекать старшеклассников к подобным дискуссиям.
— Так, значит, по-твоему, я виг, то есть либерал, — сухо усмехнувшись (обычная его манера), спросил мистер Лиддел.
— И вообще коммунист. — Я насмешливо фыркнул, демонстрируя, что шучу. — Кем бы вы ни были, вы точно приверженец детерминизма.
— Из чего следует, что ты приверженец тори?
— Я так не думаю, сэр. Но действительно считаю, что если бы у Наполеона Третьего в тот день не болела голова, он бы отреагировал на депешу иначе. Гогенцоллерны продолжали бы править и без всякой войны.
— Откуда ты взял, что у Наполеона болела голова?
— Иначе бы он действовал более осмотрительно. Наверняка накануне вечером перебрал бренди. Не случилось бы франко-прусской войны, не возникла бы Германская империя. Не возникла бы империя, не началась бы Первая мировая война.
Мистер Лиддел посмотрел на меня с жалостью.
— И мой папа был бы жив, — добавил я.
Повисла неловкая пауза. Я и сам не понял, почему вдруг свернул на свое, личное. Тогда я еще не читал трудов по психологии, где сказано, что подобные «случайные» реплики как раз и выдают то, ради чего затеян разговор.
Потом произошло нечто ужасное. Мистер Лиделл полез в карман своего твидового пиджака за платком. Долго сморкался, после чего, сдвинув очки, поднес платок к глазам, полным слез.
У меня внутри все оборвалось. Сердце ушло в пятки.
Наверное, он это из-за своего младшего брата, погибшего при Пашендейле… Или из-за жены. Да, точно. Мои слова напомнили ему о миссис Лиддел. Мы никогда о ней не говорили и теперь уж наверняка никогда не будем.
Из моего окна была видна не только косматая лиственница, но и часть соседского сада. Однажды вечером я сидел с томиком Катулла, уже почти не надеясь, что у меня когда-нибудь будет своя настоящая жизнь. И тут на соседской лужайке появилась девушка, похоже, моя ровесница.
Мистер Лиддел говорил, что рядом живут Миллеры, но я так рано уходил и так поздно возвращался, что никого, можно сказать, и не видел. Глава семейства работал на заводе электрооборудования, дочку звали Мэри.