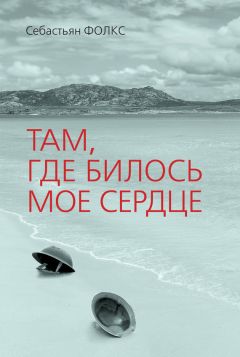К тому моменту, когда меня начали волновать темы более занимательные, чем гордость за удачный перевод или претензии к школьной столовке, дневнику исполнилось два года. Я боялся, что он попадется кому-нибудь на глаза, поэтому писал на греческом. Не на греческом языке, конечно, просто греческими буквами. Чтобы никто совсем уж не догадался, о ком идет речь, я позаимствовал имена из мифов. Мэри Миллер была у меня Еленой, старый мистер Лиддел — молодым возлюбленным Афродиты Анхисом, мама — Медеей, а отец, которого я упоминал крайне редко, — Одиссеем.
Для дневника я приспособил толстую, в четыреста страниц, тетрадь с голубой обложкой для домашних работ, забрав ее из школьного шкафа. Ежедневники с пропечатанными календарными числами мне не нравились, их пустые страницы словно бы укоряли за напрасно прожитые дни без записей. Зато тетрадь можно было использовать только по мере надобности. Писал я мелко и аккуратно, надеясь, что этой толстушки мне хватит на два десятка лет, и тщательно ее прятал, хотя даже если кто-то и захотел бы почитать мои записи, ни черта бы в них не понял.
На ночь я читал Библию. Сами по себе изложенные в ней истории были потрясающе интересными, но ореол святости, которым они были окутаны, мешал следить за интригой. Военачальники Иеффай, Иошуа[8] и Гедеон самозабвенно сражались за Иудею и Самарию, отвоевывая земли для израильтян.
В одиннадцать мне полагалось выключать свет, поэтому чтение продолжалось с фонариком под одеялом. У этих древних израильтян рождалось невероятное число незаурядных личностей, неиссякаемый кладезь героев и талантов. И патриархи, и пророки, и воины, и цари…
Весьма любопытно было наблюдать, как менялись отношения между правителями и высшими силами. Авраам и Моисей получали указания непосредственно от Яхве, и никакого недопонимания не возникало. Но более поздние властители, скажем Саул и Давид, полагались на придворных пророков: те выслушивали Господа, а потом передавали Его повеление правителю. Вот когда нарушилась линия прямой связи с главным боссом, дело пошло наперекосяк. Добросовестно изучив сведения о пророках более поздней эпохи, которых никогда не упоминают в церковных проповедях, я обнаружил, что все они — люди простые, но обладавшие нетривиальными способностями. Их преследовали голоса, вещавшие нечто непонятное и призывавшие немедленно исполнить их рекомендации. Ну разве не поразительно: первых пророков чтили, считали самыми влиятельными при дворе людьми, а малые (так их называют) превратились в изгоев, прозябавших на каменистых горных склонах. Мне было искренне жаль всех этих Иезекиилей и Амосов, едва не оглохших от навязчивых голосов, потому что новая поросль правителей пренебрегала их пророчествами.
Я так усердно изучал латынь и малых пророков, что не замечал зловещих перемен в Европе. Пока я вникал в особенности политики Наполеона Третьего, Адольф Гитлер драл в клочья Версальский мирный договор, итальянцы устроили кровавую мясорубку в Абиссинии[9], применив против аборигенов с копьями пулеметы и газ. Честно говоря, лысый Муссолини со своими напомаженными вояками выглядел несколько курьезно. Да и сам коротышка фюрер, при всей его напыщенности, почему-то казался вполне безобидным персонажем.
Экзамены я выдержал и смог поступить в старый шотландский университетский колледж, не слишком популярный. Обучение было бесплатным, и мне даже дали стипендию, скудную, но дали. На прощанье мистер Лиддел вручил мне Еврипида в кожаном переплете, которым наверняка очень дорожил. Еще он подарил мне пиджак, это было неожиданно, я ведь думал, что их у него всего два. Мама сказала, что ее сердце не выдержит расставания, но когда я, подхватив чемоданчик, зашагал в сторону станции, никак не выдала своих чувств. Пока я шел, немного вспотел: октябрьское солнце было еще жарким, а твидовый пиджак мистера Лиддела довольно плотным.
…Я закрыл старый дневник, словно захлопнул дверцу в прежнюю жизнь, в которой было полно надежд и шансов, порою странных и непредсказуемых. Голубая тетрадь вернула мне былое.
Свое письмо с вежливым отказом я положил на столик в холле еще двое суток назад, но оно там так и лежало: под кипой снова скопившегося почтового хлама я увидел краешек того самого конверта. Я вытащил его, бросил в мусорную корзину и тут же направился к письменному столу строчить новое послание. «Уважаемый доктор Перейра. Большое спасибо за письмо и за приглашение. Приеду с большим удовольствием…»
Ответ пришел через неделю, а еще через десять дней я сидел в самолете.
Авиарейсов в Тулон было мало, билеты дорогие. Я решил лететь в обход, до Марселя. Там нанял легковушку и добрался до мыса миниатюрного полуострова, который Перейра по-французски называл presqu’ile. На небольшом водном пространстве были пришвартованы прогулочные катера и водные такси. Я топтался около замызганной кафешки «Cafe des Pins» с красной маркизой над дверью, под которой и ждал своей очереди на такси.
Почему после экскурса в собственное прошлое я передумал и принял приглашение? Начнем с того, что мое желание погрузиться в давние события и перечитать свои подробные юношеские излияния было, скорее всего, вызвано потребностью выстроить эмоциональную защиту. Последние исследования показывают, что наш мозг принимает решение раньше, чем мы успеваем это осознать; еще до того, как мы вынесем оценку той или иной ситуации, включаются соответствующие внутренние системы. Спонтанно отмахнувшись от собственной «свободной воли» (или от иллюзии таковой), я, выходит дело, наилучшим образом подтвердил свежее научное открытие.
Мне предстояла встреча с человеком, который отворит дверь в то прошлое, которое мне вообще неведомо: я нервничал, что какой-то незнакомец, возможно, знает обо мне больше, чем я сам.
Мне, конечно, хотелось удостовериться, что сложившиеся представления о себе и своей жизни соответствуют действительности. С другой стороны, история с Аннализой (а там чего только не было намешано: и ненасытная похоть, и страх, и подавление ненужных чувств, — в общем, адская смесь) говорила о том, что эти представления далеко не полны. Некоторые особенности моего характера — или, по крайней мере, поведения — не только провоцируют процессы саморазрушения, но и заставляют страдать других.
Мне было уже шестьдесят с лишним, верно. Но я чувствовал себя молодым и бодрым и был готов к переменам, к встрече с неизвестностью. Возможно, именно такой врач, как Перейра, ровесник моего отца, специалист по проблемам памяти, сумеет мне помочь.
Я потянулся за второй сигаретой, когда передо мной вдруг остановилась старая женщина, вся в черном. Внимательно меня осмотрела.
— Vous ệtes Dr Hendricks?[10]
Говорила она с сильным местным акцентом. Это был средиземноморский диалект французского.
— Oui.
— Venez[11].
Это «идемте» незнакомка сопроводила взмахом руки. На своих старых кривых ногах семенила она очень резво. Мы спустились на каменную пристань, прошли мимо пассажирского парома, причаленного тут до утра, потом по мостику, к катеру с белым тентом. Катер был большой, человек на двенадцать, а нас — всего трое: третий стоял в рубке у штурвала. Он запустил мотор и направил катер в сторону бухты.
Моего французского хватило, чтобы спросить у старухи, куда мы плывем и сколько времени займет дорога, но из-за рева мотора ответа я не расслышал, и мне показалось, собеседницу это даже обрадовало. В конце концов я оставил попытки завести разговор и стал смотреть на белую от пены кильватерную струю за кормой. Через двадцать минут материковая суша исчезла из вида. Мы плыли вспять от заходящего солнца, вскоре оставив позади и похожий на полумесяц остров Паркероль.
Несмотря на качку, я в какой-то момент задремал. Разбудил меня удар борта о скалу. Стояла уже глубокая темень.
Наш кормчий и старуха что-то азартно обсуждали. Мы находились в скалистой бухте. В calanque, как назвал ее кормчий. Он зажег факел в железном кольце, вбитом в скальную породу. К кольцу прикрепил швартовый канат. Море тут было почти спокойным, кормчий с легкостью выпрыгнул на берег и протянул руку сначала старухе, потом мне.
Затем мы куда-то карабкались, что при слабом неровном свете факела было не так уж просто, пока, наконец, не вышли на тропу. Здесь проводник нас покинул и отправился назад, к своему катеру, оставив меня с проводницей. Далее — вверх по склону холма, сквозь тьму и какие-то заросли. Пахло соснами, земля под ногами была густо усыпана длинными иглами. Наконец мы добрели до лестницы ступенек в сто, не меньше, долго взбирались и оказались на плоской площадке, вероятно, верхней части обрыва. Там стоял огромный дом — квадрат, еле видимый в лунном свете; иного освещения не было. Я разглядел очертания тропических кустов и деревьев, растущих вдоль крытой веранды.