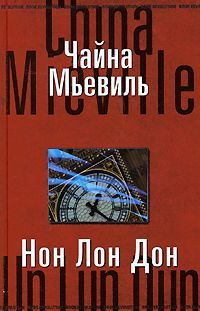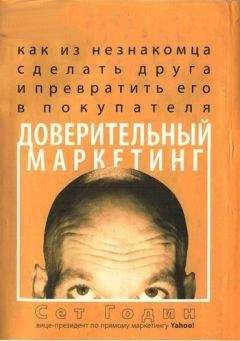(Потом приехал из Германии дядька Эдисон, и между ним и тетей Ниной произошла немая сцена встречи Штирлица с женой — глаза в глаза, не отрываясь, с какой-то не присущей дядьке Эдисону нелепой серьезностью, с прощальной нежностью, так, будто они в самом деле невозвратимо потеряли десять лет под колпаком разведчицкой легенды и каждой жилкой теперь сопротивлялись потребности шагнуть друг к другу и сомкнуться в целое.)
Иван тогда не чуял, как земля то и дело загоралась у отца под ногами, и всякий новый перелет в Женеву или Лондон воспринимал как приключение; и без того огромный, непочатый мир распахивался в истинный, не поддающийся охвату сознанием, размер; в те годы они с Мартой налетались на четырнадцать жизней вперед, потом сестру и вовсе надолго переправили в Швейцарию, в лицей с казарменной дисциплиной — и совершенно не из нуворишского тщеславия.
Когда Иван пошел в четвертый класс, волчок отца уже крутился на предельных оборотах, пробиваясь к нефтяной утробе Земли, и многоскважинная, с черной горючей кровью, раскосоглазая сургутская красавица влекла Ордынского к себе сильнее стократно, чем всякая земная маленькая женщина, все ею было, жаркой, липкой и обещающей отцу стомиллионный приплод, заслонено. А в пятом классе детство кончилось: по всем каналам показали развороченный, дымящийся седан Ордынского, багрово-черное зияние в глазнице отцовского охранника, исхлестанные белой стеклянной крупой лица статистов на трамвайной остановке и самого отца, который все не мог никак себя нащупать.
Ивану стало страшно по двум и, показалось, взаимоисключающим причинам: во-первых, он проникся отчаянным звериным чувством одиночества и боли за отца, а во-вторых, постыдно поразился раздвоенности облика того, кто некогда, мотая головой и фыркая, как лошадь, катал его, Ивана, на спине: тот, зазеркальный, в телевизоре, как будто расцарапанный большой кошкой в кровь, был совершенно незнаком ему, Ивану, и мог действительно — шипела разъяренно мать — «опять бежать к Чубайсу на диванчик и трахаться с ним».
Всего вместе взятого — измены с диванчиком вице-премьера, разлуки с Мартой, страха за детей — она отцу и не простила; отцу же стало к тому времени уже не до развода даже: снаряды начали ложиться слишком густо, сменилась верховная власть, предъявила отцу обвинения — что уклонялся от налогов, нанося казне ущерб в особо крупном, — отец бежал, с собой в лондонское сытое изгнание уводя последний, не расклеванный милицейским вороньем миллион.
Вместо отца — исчезнувшего в телевизионном зазеркалье настоящего отца — в их дом монгольским игом ворвался бледный и сутулый от кабинетной каторги урод, с запаянными в стекла роговых очков смотрящими вовнутрь безумно-сильными глазами, гигантский сверчок в идиотской пижаме с подсолнухами, и было непереносимо видеть, как мать и «этот» соединяются в одно четырехрукое, двуглавое, бесцеремонно ждущее от Вани здоровой жизнерадостности существо… как мать сама и первой протягивает руку для взаимного врастания и будто подчиняется, теряет самое себя и служит только Роберту, самостоятельно, отдельно уже не существуя.
Иван стал нужен только самому себе. Сестра, с которой мог бы удвоенной силой противостоять тевтонскому нашествию новой маминой любви, уже не была тем прежним смуглым худосочным нахаленком с такой же плоской грудью, как у брата, — перенеслась, ушла навечно в новую, иную систему мер, пропорций, биохимических процессов и душевных состояний.
Урод работал в университете Людвига Максимилиана — исследовал там генетические коды различных микроорганизмов, возникших под землею и откормленных на углекислом газе миллионы лет назад, — поэтому мать повезла Ивана за бугор в страну «Семнадцати мгновений», безукоризненного орднунга и лучшего на свете пива.
Иван сперва едва не с ликованием воспринял идею поступить в лицей при LMU и жить там в общежитии отдельно от «такой» семьи, приобрести свободу от обрыдшего притворства перед матерью и Робертом. Но упоение свободой выдохлось быстрее, чем он освоился на новом месте, вернее, так и не сумел освоиться. Не то вот эта новая учебная и общежитская среда, в которую Иван был должен погрузиться, оказалась такой упрямо-неподатливой, не то какой-то сокровенный человек, который жил внутри Ивана, противился приспособлению и интеграции.
Все начиналось с языка, все объяснялось языком: Иван неделями не мог ни слова вытолкнуть на не дававшемся ему немецком. Да нет, не то чтобы он был невероятным лингвистическим тупицей, но просто родина, наверное, приучила его переводить весь мир на русский; немецкий подходил для булочных и супермаркетов, кофеен и столовых — как будто бедный родственник единственного подлинного языка, как будто краснороже-дюжая и расторопно-исполнительная челядь рядом с барином.
Неудивительно, что все его учебные успехи оценивались как «едва посредственные». Иван угодил в зону мертвого штиля: из строя выходила, мигая аварийно, та самая вторая сигнальная система, которая, по утверждению собаковода Павлова, и сделала нас всех людьми.
Ивану даже были навязаны занятия с психологом — установить и устранить причины, но только что он мог на тех занятиях сказать? О том, что в нем порой поднимается необъяснимая тоска по родине — не по призракам русских берез, не по холмам и нивам, не по «почве» (нет, представление о дышащей, живородящей и одухотворенной будто бы земле было, конечно, чуждым и неусвояемым для выродка большого города), не по каким-то исключительно прекрасным людям, а главным образом по языку, который он стремительно и неостановимо забывал, по вольным, царственным, неспешно-величавым переливам, материнским бокам и отцовским коленям несметных уменьшительно-ласкательных, по плывунам и донным ямам двусмысленностей и обратных смыслов, по вечно зыбкой и изменчивой трясине, которая не отпускает, втягивает, всасывает и обнимает жгучей лаской так, будто ты вернулся в жизненную влагу, из которой сто световых столетий тому назад произошел.
Поэтому Иван хотел вернуться туда, где русский вырывается из пастей ста пятидесяти миллионов, как клубы пара на морозе. Об этом говорил он матери, когда им выпадали каникулы или двухдневные свидания.
Ордынский-младший сызмальства питал неутолимый хищный интерес к устройству живого. На иллюстрированных в цвете страницах медицинских книг из дедовской библиотеки залпом, бескрайним половодьем разливался дивный мир, в котором мускулистые и стройные, безукоризненно-отборные нагие юноши и девы — с одухотворенным лицом без особых примет — сдирали свои кожные покровы, как одежду, показывали мощные тугие ярко-красные, «сырые» веретенца, составленные из тончайших мускульных волокон, затем с какой-то отрешенной растроганной улыбкой давали снять с себя все мясо, чтобы открыть прожорливому взгляду смугло-желтый отменный человеческий скелет, дать рассмотреть швы на лоскутном черепе, строй позвонков, решетку ребер, пролетные пространства, своды, убогую тонкость ключиц, лучевидных…
Он слой за слоем продвигался к влекущей сердцевине естества. Поперечно-полосатая мускулатура. Система кровеносных рек с несметными притоками. Соединение расплывчатой лучистой яйцеклетки и проворного, с вертлявым хвостиком сперматозоида — в пугающее жалкой простотой, своей мнимой неделимостью начало новой жизни. Неумолимое, рассчитанное по часам, безостановочное превращение шарообразного скопления клеток в полуметровое, орущее, испуганное насмерть человеческое существо, с глазами, носом, ушками отца и/или матери и в то же время — бесподобное. Килограммовая блямба мокрого мяса, надежно запертая в прочном черепе, — уже так много всего объяснено, уже о расшифровке кодов воспроизводства жизни в ДНК вещают словно о клиническом анализе крови, но этого еще никто не в силах объяснить — то, как материя превращается в сознание. Как в жалкой, тесной памяти хранятся десятки, сотни тысяч моментальных снимков счастья. Как закрепляются, врабатываясь в мышцы, в кровь, начатки верховой езды, футбола, пилотажа, письма, стихосложения, звукоизвлечения. Как там, словно в швейцарском банке, на наши знание и опыт набегают ежесекундные проценты. Как это электрическое прирастание уникального живого однажды достигает критической отметки, и вся любовь, вся жизнь выплескиваются разом, будто вода из опрокинутой бутылки.
Простая, самоочевидная вот эта мысль о невосстановимости уединенного сознания Иваном овладела накрепко, прижала, придавила огромной каменной пятой: он не хотел, не мог смириться с людоедским, не чующим разницы гнетом природы, которая постановила, что он, Иван Ордынский, должен навсегда не быть. Ночами этот страх перед грядущим уничтожением личности неудержимо пер на волю, бил зверем в грудь, сжимал на горле челюсти, входил в Ивана, как нога в чулок, и становилось рвуще жаль себя — не то чтобы невероятно умного, красивого и сильного, но в том и дело, что его, его, такого, как он есть, пускай в глазах других людей обыкновенного, через полсотни лет поглотит черное безвременье-ничто. Не будет следующего чемпионата мира по футболу, яблочного штруделя, не будет больше хищной радости познания, не будет матери, не будет Магды, женских лиц, не будет ветра, бьющего в лицо…