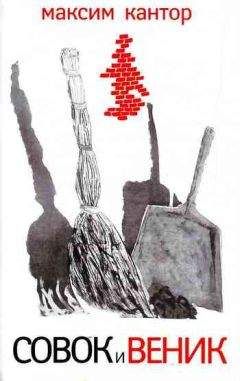Я не хотел жить, как все, я хотел сохранить себя в любой мелочи, мне казалось – есть что защищать, и вдруг я увидел: нет, правда лишь то, что существует.
Я пропал, повторил я. Но сдаваться было бы глупо.
Они еще лежали и слушали радио, а я уже вскочил и выгребал из кошелька мелочь. Разыскать санитара, выпить. Скорее. Я выскочил из палаты, прошел в темноте до лестничной площадки и бросился вниз.
После первого этажа лестница стала уже, а потолок ниже, лестница повернула еще раз, и со стен исчезла голубая краска. Теперь они были облезлые, грязные.
Следующий марш ступенек вывел меня к низкой двери, обитой жестью, я толкнул ее и вошел в подвал.
Передо мной был узкий проход с бугристыми бетонными стенами и потолком – чуть ли не впритык к макушке. Здесь было темно, только через каждые пятьдесят метров, повешенные вертикально, как свечи, дрожали люминесцентные лампы. Я побежал вперед; вскоре коридор раздвоился, и я побежал налево; проход становился теснее и темнее; я увидел, что это тупик. Я бросился назад и на перекрестке свернул направо, я бежал и бежал, и коридор раздвоился снова. Я сообразил, что подвал соединяет все корпуса больницы, и понял, что это лабиринт. Звать и кричать я боялся: слишком гулко и страшно прозвучал бы мой голос, я чувствовал, что сам себя напугаю, если крикну в этой тишине.
Кафельный пол шел под уклон, я бежал и бежал вперед, не успевая даже вздохнуть в такт шагам, и ноги обгоняли меня, и я утыкался в стены и возвращался, и все начиналось снова.
Я забыл, с какой стороны прибежал, я не знал, где я, я задыхался и бежал вперед только по инерции, по привычке что-нибудь делать.
Я услышал голоса и остановился.
– Глянь, как сапоги-то раскосал, – говорил один.
– За грибами вчера ездили, – отвечал другой, – лисичек, сыроежек не берем, только белые.
– Сапоги десять лет ношу. Жалко как раскосал.
– Подосиновики тоже берем.
– В них нипочем не промокнешь, разве если порвешь или выше колена зайдешь.
– Вчера белых много взяли.
Я свернул и увидел их. Говорил лысый лифтер с санитаром из шестой палаты. Лифтер держал бутылку портвейна. Рядом стояло еще две.
– Вовремя пришел. – Лифтер подмигнул и протянул бутылку; было противно пить после него, но я хлебнул, а потом, подумав об анализах, выпил довольно много.
– Не увлекайся, – заметил санитар, – присосался на халяву.
Я отдал ему деньги, он брезгливо сосчитал мелочь.
– Пусть пьет, – сказал лифтер, – это верняк, даже асфальт покрасит.
Он протянул мне новую бутылку. Я погрел на спичке пластмассовую крышку и, когда она стала мягкой, сорвал зубами.
В голове уже шумело, но я твердо решил нарезаться.
Я пил и прямо стоять уже не мог, сел на корточки. Голова кружилась.
Хоть бы до палаты дойти – но мне уже было наплевать.
Я сел прямо на желтый кафельный пол, пил, и меня кидало из стороны в сторону.
Все – неправда, все – не так.
Мне плохо и выхода нет, но все-таки стоит попробовать. Глупо было бы сдаваться. Я постараюсь выдержать.
Им со мной не справиться, думал я. Все плыло перед глазами, и я чувствовал себя бесконечно слабым.
Я выдержу. Знаю, что выдержу.
Если надеяться не на что – это нормально.
Драка началась вдруг.
Мы услышали грохот бега на лестнице – значит, он прятался на чердаке, – и из парадного вылетел человек. Рванулся поперек двора, а те трое вышли ему навстречу из подворотни.
Рыжий чуть впереди, и рыжего он сбил сходу – наверное, ударил свинчаткой, такие часто носят свинчатку. Рыжий и не крикнул, упал на баки с помойкой, скатился, скрючился.
А у того на руках уже повисли. Он присел – и ватник по шву; видно было, как лопнул вдоль спины. Он крутанулся, едва не ушел.
Длинный саданул его ногой в живот, и еще, и еще, а на третий раз тот ногу поймал, и они вместе покатились. Длинный рвал ему ногтями лицо, искал глаза, но тот уперся лбом длинному в грудь – не достать, и душить длинный не мог – кадык не захватишь.
А тот все крутил длинному ногу, пока не заломил коленом к подбородку, а уж тогда своей свинчаткой ему вмазал в промежность. И нет длинного – отвалился длинный.
И тот было встал – и к третьему, но рыжий – позабыли про рыжего – подобрался сзади – и на спину, и ножом. Под лопатку что ли? Маленький ножик, дешевка.
Они ему еще ногами по голове походили, длинного подняли и пошли.
А тот еще часа два лежал. Потом шевелиться стал, сел.
К вечеру ушел.
И почему я думаю, что он крепкий мужик, Максим, – за все время ни разу не крикнул, не позвал. Мы ведь от окон не отходили.
Пока несли, жилец со второго этажа повторял: «Ну его к свиньям. Пусть замерзает». В свой последний приход из больницы Иван разбил голову его жене: та не давала рубля. «Мой мало пропил, – кричала она, – теперь еще этот раздолбай. Может, еще раком встать?» Тогда-то Иван взял ее за волосы и лбом стукнул о дверной косяк. Муж присутствовал, но как есть тщедушен и хил, помалкивал, да и ситуация вышла щекотливая: Иван клянчил на пропой с ним же, с мужем. И все-таки обида осталась.
Сегодня этот самый муж бранился, но волок негнущиеся Ивановы ноги. Тот, что тащил Ивана под мышки, возражал: «Человек ведь. Бросить как можно?»
Так они протолкнули тело в подъезд, обрыли у обмороженного карманы, нашли ключи, причем жилец со второго этажа прихватил и папиросы.
Они бросили его поперек комнаты, не дотащив до дивана. Иван пробудился на мгновение, его вырвало. Потом он опять спал, оттаивая и подрагивая во сне. Прошло два часа. Он проснулся.
Он лежит головой в луже подсыхающей блевотины, силясь отвернуться, чтоб не пахло. Ему худо.
По коридору направо две комнаты.
– На них глядя, сам рехнешься. Не успел чаю налить, старуха из угловой сгребла чашку, тащит к себе. Я к ней, беру обратно – какое! Голосит, не отдает. А загажено у нее! Белья не меняет, провоняла вся. В углу горшок, моча через край. Волосы распустила…
– Это синяя с цветами чашка? Всегда мне нравилась.
– Теперь здесь стоит на серванте. Хапают буквально все. Зверье, за пачку масла уже убивают.
– Ты заметил – в комнату напротив носят мешки с вокзала?
– Не удивляюсь. На что жить? Сын – инвалид на пособии, но ведь это копейки. Полагаю, и алкаш подворовывает – на что нынче пить, если не вор? Я вот не могу сеэе позволить каждый день. На продукты первой необходимости не хватает.
– Поди их найди. Прочесала весь микрорайон – нету сметаны.
Комната напротив.
Сын Веры Терентьевны, нездоровый человек лет сорока, нудит.
Было у меня пальто, мать справила, каракулевое, а сосед прилип: давай для жены куплю, она в шубку перешьет. А то ей ходить не в чем. И сметаны нет в нашем микрорайоне. Слушай, говорю, а я в чем ходить стану? Нет, говорит, не понимаешь ты моих проблем. Жене носить нечего. Так бы она себе шубку сшила.
И ходит злой, белый, дверями хлопает.
Хорошо бы эту зиму пережить, говорит, а как переживешь, если масла нигде нет. И холод лютый.
У тебя, говорю, денег много, иди на рынок, масло купи.
Нет у нас таких денег на рынки ходить. Я отложил за пальто тебе, а больше нет.
И опять дверью – шарах!
И жена его сидит на кухне бледная, видно, что страдает. Я как-то спросил: ты чего, Ирина, такая бледная?
А чего, говорит, радоваться, если сметаны нет в нашем микрорайоне. На люди выйти не в чем.
Я ему однажды сказал: ну хрен с тобой, забирай пальто, гони две тыщи и забирай.
Как побелеет, весь в обиду ушел.
Шестьсот рублей могу дать, это специально на твое пальто отложено.
Помилуй, друг, говорю, оно на рынке все три тыщи потянет.
А на рынки я не хожу. – И стоит весь белый, губы в ниточку и дышит тяжело.
Ну не хочешь, не бери, говорю.
Не понимаешь ты моих проблем, говорит. Ладно, пусть. И дверью – бабах! мне весь чай на колени.
Подавись, я говорю, этим пальто.
Побежал, принес – пятьсот пятьдесят. Больше, говорит, нету. На сметану вчера потратились. Войди, говорит, в мое положение.
Взял я эти чертовы деньги, одна подкладка дороже. Он пальто встряхнул, почистил у меня в комнате, на плечики повесил, жене унес.
Приходит.
А пиджак, говорит, не продашь?
Зима, говорю, холодно.
Постоял, помолчал, лицом побелел. Ну хорошо, говорит, раз ты моих проблем не хочешь знать.
Женщина из угловой комнаты.
Они ходят ко мне, но не в гости. Только чтобы вылить кружку с водой. Я не сплю и слышу, как в раковину течет вода. Нужно выспаться, потому что я все время плачу. Не понимаю отчего, я стала часто плакать. Знаете, какой веселой я была в детстве – я так смеялась, что на меня приходили смотреть соседи. Они ходили к нам в гости. Почти всю жизнь. Пока не умерли папа с мамой. А потом – соседи. Теперь не могу уснуть. Если ночью попить, то легче. Вчера в кружке осталось несколько капелек. Я сказала: не выливайте в раковину. Они вылили и мне нагрубили: у тебя мелочный характер. А у меня очень хороший характер. Ничего не нужно. Только поспать и пальто. Они бесчувственные. Я сказала: если б у меня было пальто. Понимаете, приличное пальто, чтобы ходить в гости. Как же, например, мне пойти в гости зимой. Я измотана от бессонницы, но если б я по вечерам ходила в гости, то возвращалась бы веселая и могла бы уснуть. В гостях пьют чай и много смеются. Но в гости не попадешь, если у тебя нет пальто. Мне кажется, кто-то взял мое зимнее пальто. Можно ходить в гости к соседям. Соседи ходили к нам, пока не умерли. И ходят теперь, чтобы выливать воду. Может, все это скоро кончится. Нет, не скоро.