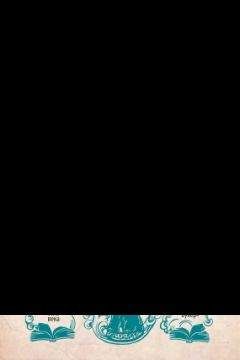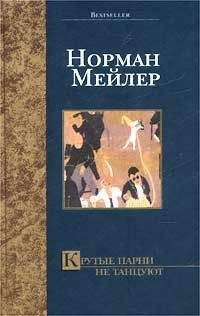В копилке у Суворова было и много другого, чем он тоже скорее всего никогда не воспользуется: к чему бередить свою тень? Да и вправе ли он отрывать по кусочку от собственной тени?.. Лучше уж волочить ее за собою, как крест. Ну а черпать — оттуда, где тот, по пути на Голгофу, оставляет особенно жесткие борозды. Похоже, писать — значит быть рутинно распятым на кресте своей тени…
Когда-то, по молодости, Суворову представлялось, что писательство — не что иное, как игра с дьяволом в поддавки, чья подспудная цель — разменять почти все наличные фишки, а затем, опрокинув, как палиндром, с ног на голову правила, прочитать в них бессмыслицу, отречься от них и внезапно прикончить своею последней фигуркой фигурку соперника. Потом Суворов признался себе, что задача его ремесла куда как скромнее и сводится к одной лишь необходимости — воссоздавать на контурной карте обыденности ее недостающее измерение. В самом деле, если в том, что зовется «реальностью», все было постыдно двумерно (время — длина, бытие — ширина, жизнь — площадь квадратов внутри этого поля), то в искусстве архитектурно преображалось и становилось объемным и выпуклым. Возможно, художники тем только и отличаются от простых смертных, что творят из двумерной плоскости повседневности заветное третье измерение. А может, они это делают лишь потому, что — опять же в отличие от «обычных» людей — их глазомер лишен навыка распознать его, этот третий изменчивый вектор, в картинке реальности. Та сторона, что является здесь высотой, для них ничтожно мала…
Сюжет: специалист по стеганографии,[7] нанятый криминалистами для расшифровки сложного текста, декодирует в нем пласты информации, в которых, предположительно, сокрыта загадка убийства. Чем дальше он продвигается к внутренним смыслам, тем больше его обуревает восторг от того, как ловко преступник, оставивший это послание, припрятал в нем тайну содеянного злодеяния. Еще самую малость — и оно будет обличено. Наконец, ключ найден. Когда им отпирают нужную дверь, выясняется, что в доме давно никого уже нет. Зато на столе ждет еще один ключ с лаконичной припиской: «Отправляйтесь на кладбище. Буду ждать в склепе». Указан и номер гробницы. Полиция едет туда. В склепе стоит саркофаг, на котором выбиты даты жизни убийцы. По ним заключают, что умер он раньше, чем жертва. Проведя обряд эксгумации, посылают останки на экспертизу. Лаборанты выносят вердикт: так и есть. Даты указаны правильно. Вывод: погребенный не мог быть убийцей. Стеганограф в отчаянии: все так славно сходилось! И потом — эта приписка… Здесь что-то не так. Он настаивает на точности всех своих разысканий. Его логика безупречна. Путь проделан немалый. Адрес определен безошибочно, о чем свидетельствует хотя бы подобранный на квартире преступника ключ. В расчетах не совпадает одна лишь деталь — пресловутое время. Неужели же ради него поступаться всем тем, что так стало понятно и ясно? Представив свои расшифровки, он взывает к благоразумию: «Вот вам логика. Вы взамен покажите мне время!» Детективы лениво отмахиваются: лучшего алиби, чем наличие трупа, раньше жертвы добравшегося до финальной черты, им, понятно, не нужно. Стеганограф, рассерженный, очень усталый, разбитый, приходит домой, засыпает. Через пару часов его забирает полиция: труп из морга исчез. У ученого мужа нет алиби. Ссылки на то, что, вернувшись с работы, он безвылазно находился в постели, не убеждают: нет свидетелей. Однако есть логика. Стеганограф — единственный, кому труп мешал. «Вы просили свиданья со временем? Что ж, вот вам в руки и карты: теперь уж насмотритесь на него в своей камере…» (Посвященье фон Реттау. Признание своего поражения. Еще не написанный, текст уже требует под собою три подписи. Или шесть? Плюс росчерк столетия между…)
Сюжет: шахматист играет партию в блиц. На часах остаются секунды. На доске — позиция, которую, ведись игра в обычном регламенте, можно было бы с легкостью довести до победы. Однако стрелкой на циферблате уже задран кверху флажок. Замерев в горизонтальном положении, он вот-вот рухнет. Краем сознания в ожидании хода соперника шахматист думает: если чудо свершится и флажок устоит, я никогда не умру. В следующий миг он ставит мат. Пожимая руку поверженному противнику, шахматист так же, краем сознания, думает: какая только чушь не лезет в голову в азарте борьбы! А внутренний голос его тихо так спрашивает: а вдруг?.. Да что мне с ним делать, с бессмертием? — вступает в диалог здравый смысл. Погоди, говорит внутренний голос, то как раз не твоя забота. Ты не знаешь еще, что способно бессмертие сделать с тобой!.. У шахматиста пробегают по коже мурашки.
Вечером, у себя в кабинете, разбирая закончившуюся партию, он раз за разом удостоверяется, что должен был ее проиграть: по невнимательности визави пропустил очевидный «зевок» — в тот самый момент, когда решалась судьба поединка. Краем сознания, как уже дважды до того, шахматист понимает: бессмертие началось… Испытать это предположение возможно одним только способом: жить и ждать. Жить и ждать (тик-так, тик-так). И смотреть, цепенея, на задранный кверху флажок. (Чертов флюгер! Чертов паркет… Черно-белые снимки фон Реттау. Бесовские часы на дафхерцингской станции! Чертов глаз покойного Ницше!.. Чертовы игральные кости из футляра горчаковской старухи. Все — к черту!).
Суворов плеснул в стакан коньяку. Закурил. В голове его зыбко и гул. Едва он прикрывает веки, как мир отвечает каким-то стеклянным молчанием. Плоскость режется плоскостью. Площадь сечения в аккурат пролегает по экватору стылого мозга. В каретку машинки плоско заправлен девственный лист. Чем испачкать его? Где взять хотя бы одно плодородное слово, чтоб засеять его пустоту?..
Одиночество — это не то состоянье, когда ты один. Это то состояние, когда тебя нигде нету.
Вот где руки графини Игнатовой-Штеглиц: все, что было беременно в нем, — растворено, улетучилось. Боли тоже нет — только прохлада…
Постижение бездны себя. У нее, этой бездны, лишь два измерения: верх и низ. Ледяной вертикальный каток. Зацепиться в нем не за что.
Сюжет: сановитая особа, увлекшаяся изящной словесностью, приглашает к себе на виллу трех писателей, чтобы переспать с ними в одну ночь, а наутро исчезнуть. Спустя век на вилле оказываются три других прозаика. Им вменяется рассказать в трех сочиненных новеллах все то, что содеялось здесь же сто лет назад. Для удобства в имение доставлена копия прежней хозяйки. Соблазнив литераторов, она с каждым из них встречает один и тот же рассвет, но при этом, повторяя в точности трюк прототипа, — в трех разных комнатах. Потом копия испаряется. Подчиняясь заявленной фабуле, двое бросаются наперегонки искать ее след. Третий решает пока задержаться на вилле. В лабиринте библиотеки он находит намек: две фотографии. На них — два идентичных лица. На лицах — две вполне одинаковых родинки. Но что-то в снимках его настораживает. На одной фотографии за спиной у объекта он замечает часы. Он их знает: те, что висят на перронном столбе у входа на станцию. На другой фотографии искомый объект запечатлен в той же позе, но — на фоне платана, что все так же стоит пред калиткой у въезда в усадьбу, как стоял он и сто лет назад. Тут-то писатель и обличает подлог: все дело в кроне. Если в действительности ветви старого дерева, покорные притяжению солнца, явным образом клонятся влево, то на снимке — напротив, дают столь же сильный крен вправо. По покойно висящей листве ясно, что ветра там нет. На лице у объекта, как раз под улыбкой, отчетливо видится родинка. Оба снимка ее помещают с одной стороны. Выходит, один из них лжет. Или оба? Разумеется, оба: несомненно, что точки на подбородке пририсованы позже. В пользу данного факта говорит и то обстоятельство, что в описаниях встречавшихся с объектом очевидцев про родинку не упомянуто ни словом. Стало быть, это — намеренно посланный знак. Только что он собой означает?
Лишь то, что объект, явившись на виллу, был там не один, а вдвоем. Похоже, что копия — тоже.
Есть тут, однако, загвоздка: двойка не делится на три. Хотя, если взглянуть на проблему с другой стороны, без двух не бывает и трех. Плоскость рождает пространство, как радиус — сферу. Циферблат подчиняется стрелкам часов. Циркуль чертит окружность. Окружность приносит себя в жертву плотному остовом кругу. Круг стремится скорее сложиться в свой шар. Весло ударяет по глади воды, заливает ее мириадами зыбких кругов, от которых украдена капля — первообраз пространства…
Но потом капля падает, и пространство сжимается. Остаются сплошные круги — первообраз сознанья. Тупое томление чувств. Бесконечная исповедь косноязычного воображения.
Над Дафхерцингом — солнце. Растяжимость слепого пятна. В синем зеркале озера мешают мозаику блики. Маслянистая пленка стекла. Штилевые пластинки молчания. Чешуя. Серебристая, серебристо-ребристая, ребристо-лучистая — чешуя. Раскаленная черепичная кровля песчаного дна.