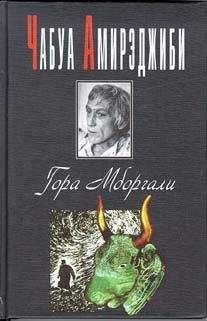Гора снова уснул, но спал на этот раз недолго. Когда проснулся, печь была еще теплой. Он лежал, думал. Что-то тревожило его. Одевшись, Гора засобирался в дорогу и с рассветом был уже в пути. Он двигался медленно, едва волоча за собой сани, тем не менее к вечеру прошел без малого тридцать километров. Снег повалил крупными хлопьями, совсем как в субтропиках, незамерзающими хлопьями. Гора вышел к берегу какой-то реки, прямо к пирамиде из бревен, готовых для сплава. Забравшись вовнутрь, устроил себе постель и уснул. Проснувшись, он пытался сообразить, как долго спит, но, так и не поняв, снова погрузился в сон.
Как выяснилось потом, Гора проспал трое суток. Стоял погожий день, проклевывалось солнце. Гора вылез из укрытия. Определил время и местоположение. Сделав отметку в календаре, собрал пожитки и двинулся в путь.
"Чем бы развлечься?.. О чем поразмышлять?.. Вспомним, на чем остановились... Да, я упомянул о комнате своей тети и о Зейнаб Нвелидзе-Нубанеишвили... Удрав с завода шампанских вин, а потом и от милиционера, я вынужден был заночевать на кладбище, а потом заявился к тете. Тут и случилась эта история ... Тетя с утра уходила на работу, а я отлеживался на тахте, помещавшейся за шкафом. Соседка, которой тетя доверяла, вызвалась носить мне еду, и тетя оставила ей ключ. Вот щелкнул замок, открылась дверь, и в комнату вошла девушка. "Тетя оставила мне ключ, я - Зейнаб Квелидзе, не бойтесь", - сказала она, заглядывая за шкаф, поставила еду на стол и ушла. Глазастая, стройная, красивая Зейнаб спустя время появилась снова, на сей раз чтобы забрать посуду. Она села неподалеку от меня, и мы стали болтать. Ее интересовало все - нелегальная работа, процесс следствия, тюрьма, побеги и много-много всего. На другое утро она снова пришла и принесла тарелку с едой в ведре, перекрытом полотенцем, чтобы любопытные соседи не видели, что она носит!.. Мы опять болтали, рассказывали друг другу всякие истории. Входная дверь была занавешена белой занавеской, через которую легко проглядывались силуэты людей в квартире. Поэтому в следующий свой приход Зейнаб присела на краешек моей постели. Кто бы ни заглянул в дверь, за шкафом ее не было видно. В ожидании денег и документов я остался на несколько дней дольше, чем предполагал, и Зейнаб пришлось раз пять или шесть приносить мне еду. Я был полон сил, здоровья, долго сидел в тюрьме, стосковался по женщине. Но могу поклясться всеми клятвами, что греховных мыслей у меня не было. Как-то так получилось, что между нами возникло ощущение близости. Повторяю, я ни о чем дурном не помышлял, просто почувствовал нутром, что Зейнаб тянется ко мне. И, думается, в какой-то момент мы оба одновременно осознали, что испытываем взаимное влечение - она, когда вышла из комнаты, а я, когда остался один. Я метался в поисках выхода и наконец решился уйти в ту же ночь. У меня был друг Малхаз Заалишвили, он жил в Ване. Район меня устраивал, оттуда легче было подать о себе весточку нужным людям. Все обернулось иначе. Вечером Зейнаб принесла мне ужин... В одной руке она держала ведро, в другой... грудного ребенка! Пришла, села на край кровати, ребенка положила перед собой...
Между нами пролегла граница!.. Я не знал, что она замужем. Не знал и того, что у нее грудной ребенок... Зейнаб оказалась женой моего друга Авто Кубанеишвили. Если начистоту, все вышло как надо. Зейнаб поступила правильно. Она ведь не знала о том, что с темнотой я собирался уйти по той же причине, и принесла ребенка... На другое утро пришел и Авто. Он уже был актером. Мы поболтали, исполненные приязни друг к другу. Вечером... Нет, поздно ночью, Зейнаб пригласила меня к себе, познакомила с братом, Шалвой Квелидзе - он был тогда комсомольским вожаком одного из районов Тбилиси. Мать Зейнаб и Шалвы, госпожа Нино, накрыла ужин. Шалва дал мне деньги и одежду. Авто поутру принес паспорт и военный билет на имя Гавашели. Я распрощался с тетей, поцеловал Зейнаб руку и отправился за приключениями своими ухабистыми путями".
Гора шел, приторочив лыжи к спине. Вдали виднелись трубы, из которых валил дым столбом. Остановившись, Гора задумался о том, что там, в тепле, живут люди: суетятся женщины на кухне, дымят махоркой мужчины, играют дети, плачет в чьих-то руках скрипка. Прислушиваясь к звукам музыки, он невольно потел на них и остановился поблизости, чтобы лучше слышать. Постояв какое-то время, двинулся дальше, и припомнился ему еще один эпизод из лагерной жизни.
"Аляхнович, музыкант, старый человек... Жил в свое время в Ленинграде, играл в оркестре одного из ресторанов. Его взяли за болтовню, срок "червонец". Жена приехала к нему в лагерь и привезла с собой скрипку. Сидел себе старик и играл на ней. Молодой парень, украинец Кодрик, все приставал к старику, чтобы тот научил его играть на скрипке. Аляхнович согласился, в благодарность Кодрик обслуживал его: стирал, приносил из столовой хлеб. Он оказался на редкость талантливым музыкантом и внутренне богатым человеком. Выучившись играть, он исполнял на скрипке классические произведения, причем играл с таким мастерством и вдохновением, что его можно было принять за профессионала.
У Аляхновича никого, кроме старенькой жены, не было - все погибли в ленинградскую блокаду. Получив извещение о ее смерти, он так горевал, что вскоре последовал за ней. Перед смертью он написал завещание, по которому скрипка отходила Кодрику. Завещание заверили мы, свидетели.
Труп Аляхновича не успел остыть, как за скрипкой явился чекист. Кодрик протянул завещание. Чекист, прочитав его, смутился и ушел, вероятно, обдумывать, как быть дальше. В этом и заключался его просчет, поскольку Кодрик, припрятав скрипку, примчался ко мне, вернее, к нам, грузинам, за советом. Времена изменились, чекисты уже не смели творить произвол, как прежде, поэтому мы могли попридержать скрипку, тем более что через пару месяцев у Кодрика кончался срок и он прихватил бы ее с собой в Карпаты. Но за скрипку надо было бороться в полном смысле этого слова, тан стоило ли из-за инструмента затевать кутерьму?! Кто-то фыркнул: "Пусть отдает, ну ее на фиг!" Кодрик едва не задохнулся от ярости. Я даже подумал, с чего это он так горячится. Кодрик, заметив мое недоумение, отвел меня в сторону и шепнул: "Это Амати!" Я разинул рот - Амати у Аляхновича?! Чекист, как оказалось, ничего не знал о ценности скрипки. Просто ему хотелось присвоить ее вместе с другими вещами умершего - вдруг окажется что-нибудь стоящее. Нужно было устроить так, чтобы новоявленный любитель музыки добровольно отказался от своего намерения. На том и порешили. Если он явится за скрипкой не один, мы попытаемся убедить его, не получится - силой проведем свое; если вдруг придет один - пошлем его подальше и пригрозим пожаловаться начальству... Чекист пришел один. Мы припугнули его, и он ушел несолоно хлебавши. Но существовала и другая опасность, на воле у него были какие-то делишки с "суками", в прошлом грабителями и ворами. Мы, признаться, тоже не были сиротками: за территорией зоны жили бандеровцы. Пришлось дать им знак, что выходит парень, которого нужно посадить в поезд без приключений, чтобы "суки" и чекисты пальцем его не тронули.
Освободился Кодрик, увез свою скрипку и по прибытии домой сообщил нам открыткой: все в порядке!
Интересно, где сейчас эта Амати, в чьих руках?..
А сколько народу погибло в войну, и какие это были люди!.. Разве ты не жертва этой войны?! Нет. Господь Бог вовремя вызволил меня с войны, зато посадил в тюрьму. Меня спросить, война началась потому, что Сталин с Гитлером "подружились". Зачином дружбы стал приезд Риббентропа. Я на ту пору был в Москве, играл с ребятами в баскетбол. Наш турнир кончился, и мы пошли на стадион "Динамо" смотреть футбольный матч. Вдруг послышался гул самолета. Все ближе, ближе... И над головами десятка тысяч людей шел немецкий лайнер со свастикой. Я и поныне не пойму, пролетал ли он своим курсом или хотел продемонстрировать москвичам свастику. На второй день газеты оповестили, что в Москву прибыл с визитом министр иностранных дел Германии фон Риббентроп.
У нас были друзья среди тбилисских немцев - несколько человек. Они никогда не проявляли своего личного отношения к тем или иным событиям нашей жизни. Обычно их высказывания совпадали с тем, что писалось в газетах или говорилось по советскому радио. Исключение составлял Бруно Кох. Он довольно оригинально реагировал на победы немцев на Западе. С началом войны он стал повязывать галстук - у него нашлись отличные, вероятно, присланные родственниками из Германии. Итак, он выходил при галстуке на угол проспекта Плеханова и улицы Жореса, здоровался с друзьями и знакомыми, благо, их у него было много - он вырос в этом районе; кто-то останавливался перекинуться с ним парой-другой слов. Но мы, ближайшие друзья, заметили, что эхо немецких побед сказалось на Бруно - он задрал нос. Наш друг Олег Колесников, перс по материнской линии, - жил там же. Его мать работала на табачной фабрике, целыми днями ее не было дома, и квартира Олега больше походила на шахматный клуб, чем на жилье. Собственно, это была не квартира, а просторная комната с мокрой точкой в конце. Мы собирались, кто когда мог, и играли в шахматы. Большинство из нас были спортсменами, мы и подружились благодаря спорту. Тут были и ученики немецкой школы, преподавателей которой впоследствии арестовали всех до единого: никто не знает, какая участь их постигла. Учеников же распределили по русским и грузинским школам.