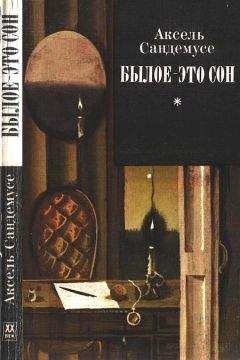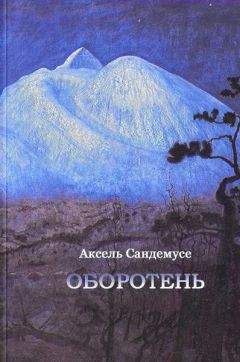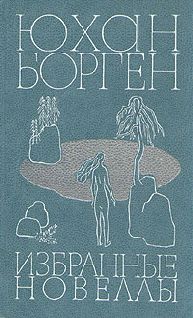Гюннер, вступивший в неравную борьбу, вызывал жалость. Неужели он не знал Сусанну и вообще людей? Конечно, знал. Но, как ни странно, поэты, все знающие о людях, редко могут воспользоваться своими знаниями, когда дело касается обычной жизни. Они действуют и слепо и глупо. В более зрелом возрасте многие из них удаляются от мира и наивно объясняют это своим презрением к людям, желанием без помех работать над крупными произведениями или придумывают еще что-нибудь, лишь бы пустить пыль в глаза. А на деле они просто не знают, как иначе отделаться от портного, которому даже ничего не должны.
Тот, кого любишь, освобождает в тебе связанные ранее силы, ты становишься другим, — наверно, нечто подобное произошло с одним человеком, которому операция вернула мужскую силу. Не справившись с собой, он бросился с небоскреба. Ты перестаешь понимать себя, ты сердишься, но необходимо помнить, что любовь, как и сон, живет в тебе, а не в других, и, уж конечно, меньше всего в той, которую ты любишь.
Когда мы с Сусанной жили в Старом городе, Гюннер однажды пришел к нам в мое отсутствие. Он сказал, что хочет повидать Гюллан. Сусанна была вне себя, рассказывая об этом. Неужели ей никогда не избавиться от этого человека!
Но что она понимала? Он сказал, что хочет повидать Гюллан. Я догадался, что она очень разволновалась и разыгрывает великий гнев.
После моих визитов в дом Гюннера, где у меня не было ребенка, по которому я тосковал, с его стороны это был лишь скромный ответный визит. Я не стал ничего объяснять Сусанне, женщине нелегко посмотреть на дело с двух точек зрения.
Она приписала ему другие мотивы, хотя прекрасно знала, что без ребенка ему гибель. Наверно, всем нам следует почаще и повнимательней вглядываться в собственные мотивы. А мотивы самой Сусанны? Не знаю ни одного ее поступка, который был бы искренен и не служил ширмой для чего-то, что обнаруживалось лишь много времени спустя.
Будь верен призраку, сын мой, и найди себе Йенни, которая не имеет ничего общего с призраками. Будь верен призраку, долгому и светлому хмелю любви, и не пытайся ничего исправлять.
Бьёрн Люнд обвинил меня в том, что я убил Антона Странда. Почему он это сделал? Мотив-то его ясен, но что натолкнуло его на эту мысль? Ответ многое поведал бы о Бьёрне Люнде.
Я разыскивал Мэри Брук через сыскное бюро. Никаких результатов. Сегодня ночью я долго думал о ней с горячим и смутным чувством. Мэри переборщила в танцах с показом своих женских прелестей и потеряла всякую притягательность.
Я долго стоял и глядел в темную весеннюю ночь, потом бродил по веранде, проветривая комнату, и думал о Норвегии, и, несмотря ни на что, радовался, что в день Страшного суда я не окажусь палачом.
Нынче мне никак не унять расходившиеся мысли. Чем же я занимался по ночам раньше, когда еще не начал писать? Спал, конечно, но тогда я много работал.
Почему ночью можно неподвижно стоять часами и глядеть в пролет улицы, где под ярким светом рабочие возятся с какими-то трубами?
Если б сегодня я успел записать то, что тенью мелькнуло во мне, я бы знал все. Но остался лишь отблеск, лишь обрывки мыслей.
Словно я стою на берегу после шторма, где унявшиеся волны нашептывают земле о бесчисленных кораблекрушениях.
Осло, июль 1940.
Рованиеми, август 1940.
Со многими столкнула меня судьба, пока я жил в Норвегии. Кое о ком я написал, но все написанное о тех, кто не имел для меня значения, я сжег. Сам знаешь, бывает, встретишь кого-то, а потом он снова скроется в тень, из которой явился. Я писал, чтобы выиграть время, у меня была определенная цель. Поэтому я не вношу сюда лишних имен. Боюсь, чтобы ты невольно не придал им слишком большого значения, — ведь только я сам знаю, что они значат.
Бьёрн Люнд однажды явился ко мне в отель, и мне пришлось принять его. Он был твой дед, но это ничего не меняло. Думаю, он просто подкараулил меня, потому что вошел сразу же вслед за мной без доклада портье.
В тот день на нем не было нацистского значка, но он только что опубликовал в норвежской немецкой газете пространную статью о новых временах и восходящем солнце. Он не умел писать, люди смеялись. Бьёрн Люнд, изучавший вопрос о популярности и знавший ей цену, совершил промах. Он и сам это понимал.
Был июнь. Союзники уже давно покинули нашу страну. Король и правительство сидели в Лондоне. Появились первые признаки нелегальной работы — большей частью письма отдельных лиц, написанные на машинке или размноженные на ротаторе. Распространялись фотографии сожженных городов. Это было в дни Административного совета, обе партии выжидали. Как раз в то время, когда нас пичкали наглой ложью, я вспомнил о древнем требовании, гласившем, что между государствами должны соблюдаться те же этические нормы, что и между отдельными людьми. А как было в действительности? Немцы следовали логике, которую мы называем женской и которая, судя по моему опыту, была особенно характерна для Сусанны. Подобно ей, они то давали клятвы, то нарушали их, если им было выгодно, и все это с пафосом, растроганные собственным благородством в данное историческое мгновение, чуть не рыдая над своим великодушием.
Я видел, что Бьёрн Люнд пришел по какому-то делу. Он не мог замаскировать это болтовней о посторонних вещах. Болтовня имела свою цель, я это скоро понял. Он хотел сбить меня с толку. И он был совершенно трезвый.
Я ждал, что он заговорит о Йенни, но он весело заговорил о Сусанне:
— Вот мошенник! А кто утверждал, что у него с ней ничего нет? Теперь один только Гюннер пребывает в неведении, хе-хе, старая история. На днях я спросил у Сусанны, правда ли это. Конечно, ответила она, Джон Торсон — заместитель Гюннера.
Я услышал интонацию Сусанны, она действительно могла так сказать. Он продолжал:
— Как-то ночью я встретил Гюннера на Драмменсвейен, он изрядно нагрузился. Иногда он пускался бегом. Я крикнул: «Эй, Гюннер, за чем бежишь?» — «За правдой, — ответил он, — за правдой!» Ха! Бегать за правдой по Драмменсвейен! Вот уж где он ее не найдет!
Сейчас начнется, подумал я.
— Йенни так ждала весны, ей хотелось снова поехать на глухариную охоту. Да вот сорвалось.
Я промолчал.
Бьёрн Люнд забарабанил пальцами по крышке стола. Я вспомнил, что он даже не попросил выпить. Может, не хотел рисковать, боялся, что откажут?
— Черт бы побрал этих женщин! — сказал он, и я услыхал, что он слегка подражает голосу Сусанны. — Великих, незаурядных женщин, которые не желают тратить жизнь на чистку картошки. Им подавай большие задачи, они хотят самоутвердиться, хотят осчастливить человечество. И, посвятив нас в свои цели, уходят к другому, чтобы отныне чистить картошку только для него.
Я молчал. Тот, кто встречает молчание, впустую растрачивает силы.
— Да-а-с, — произнес он, — оказывается, они жаждали обновления, им нужно было поглядеть, как другой мужчина будет есть очищенную ими картошку.
Я откинулся в кресле и не спускал с него глаз. Скоро он перейдет к делу. Непринужденность его была наигранная, прежде ему не требовалось напускать ее на себя.
Вдруг он посмотрел мне прямо в глаза и некоторое время не отводил взгляд, словно хотел загипнотизировать меня. Я глядел на него и ждал.
— Разница между тобой и мной заключается в том, — голос его поднялся тоном выше, я знал эту его манеру, — что тебя события подхватывают и выносят совсем не туда, куда ты хочешь! «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу».
Я не удержался и прервал его:
— Вот уж не думал, что ты так силен в Священном писании!
Он отмахнулся.
— А я сам направляю события и решаю, куда они должны привести!
Подобные проповеди никогда на меня не действовали. Я промолчал.
Некоторое время он разглядывал свои руки.
— Что, собственно, ты делал в Гране прошлой осенью?
Я знал, что он заговорит о деле. Значит, его интересует Йенни, и он хочет начать от печки.
— Мне сейчас некогда, — сказал я. — Придется тебе зайти в другой раз.
Теперь в его глазах проглянул прежний Бьёрн Люнд.
— Послушай, давай сбросим маски! Мне интересно, когда ты приехал в Осло?
— Какие еще маски? Когда я приехал в Осло?
— Да. Когда ты первый раз поселился в этом отеле?
— Второго марта тысяча девятьсот тридцать девятого года. А почему тебя это интересует?
— Да потому, что не второго, а третьего.
— Хорошо, пусть будет третьего. Какая разница?
— Ты прибыл из Ньюкасла на «Черном принце»?
— Да. Может, ты хочешь…
— Нет, — сухо сказал он, — не хочу. А вот не можешь ли ты достать мне пятьдесят тысяч?
Я с облегчением рассмеялся.
— Нет, не могу.
Он облизнул губы.
— По-твоему, слишком много?
— Признаться, да. Ты и так должен мне почти две тысячи. — Я решил потихоньку перейти в наступление: — Ты бы никогда не получил их, не будь ты отцом Йенни.