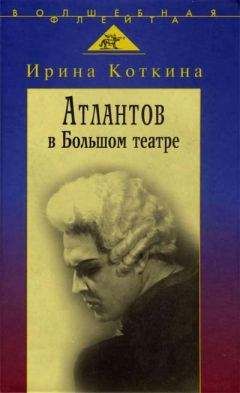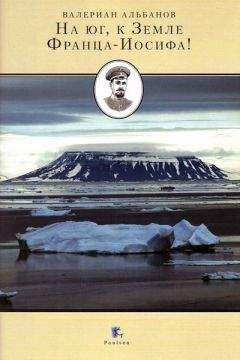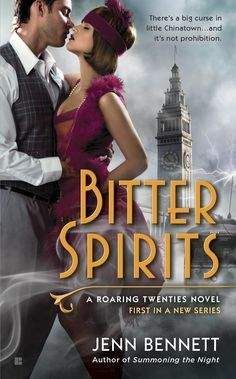— А вот в «Густынской летописи», последней трети семнадцатого века… — сказал, открыв глаза, Пушкин. — И вообще. Исторические источники девятого-десятого веков однозначно свидетельствуют о том, что Русь не была тождественна славянам. В этом сходятся источники самого разного происхождения — древнерусские, византийские, восточные, западноевропейские. Существует убедительная вероятность того, что зафиксированные в источниках русы были скандинавами.
Все, кроме Людмилы, обернулись к Пушкину.
— Позвольте, вы в сознании?
Но Пушкин явно был не очень в сознании.
— На данный момент, — сказал он вдохновенно, — это единственная версия, способная плаусибельно и непротиворечиво интерпретировать весь комплекс имеющихся в нашем распоряжении данных.
— Это он, похоже, меня цитирует, — сказал Кудрявцев, и сказал это совершенно спокойно.
— Что такое плаусибельно? — брезгливо спросил отец Михаил. — Что значит это слово?
Некрасов, продолжающий сидеть за роялем, издал короткий смешок. Паства повернулась к Некрасову. Он подмигнул Амалии.
— Плаусибельно, — сказал он, — означает — «Смотрите на меня, люди, я — человек, который знает слово „плаусибельно“».
— Я не хочу сказать, — сказал Пушкин, — что автор — сторонник норманнской версии. В явном виде он четко позиционируется лишь по отношению к «антинорманнской версии» — он не ее сторонник.
— А это…
— Что-то знакомое… — заметил Кудрявцев.
Марианна промолчала. В данном случае цитировали ее.
— Взгляды его по норманнской довольно своеобычны — для знающего-понимающего очевидно что Олег с Горским маленько лукавит…
— Своеобычны, — повторил Кудрявцев. — И, наверное, общеречивы тоже.
Ему явно было все равно, что подумает Марианна. Куда-то исчезла его нервозность. Он стал весьма аристократичен, надменен, непрост, и при этом совершенно нечванлив. Кудрявцев стал совершенно свободен.
— И многонаправленны, — поддержал его Некрасов от рояля.
— Перестаньте издеваться над раненым, — потребовала Амалия.
— А вот к примеру касаемо истории нашей физики, — скрипуче сказал биохимик, очень похоже имитируя интонации Марианны, — я ко всему прочему лично общалась со многими физиками или работала с их архивами… Хотя, надо признать, в целом ряде вопросов до сих пор нет боле-мене объективной картины…
Кудрявцев засмеялся, а Марианна насупилась.
— Что это ты, девушка, дрожишь? — обратился отец Михаил к Нинке.
— Я-то?
— Да.
— Холодно.
Отец Михаил обвел глазами паству. Эдуард снял пиджак.
— Попробуем еще раз, — сказал отец Михаил. — Всем молчать. Певунья наша сейчас нам споет… тише! Давеча нас прервали, а так хорошо все было… — Он посмотрел на Аделину. — Голос у вас, барышня, таких голосов поискать…
Никто не возразил, и это Аделине понравилось. Она отошла к роялю. Отец Михаил присоединился к ней.
— Что-нибудь более доходчивое, помедленнее, — попросил он. — Не в службу, а в дружбу, а то мысли у людей добрых разбегаются. Что-нибудь более возвышенное.
— «Тоска», второй акт, — предложил Некрасов, большой любитель веристов.
Аделина фыркнула презрительно.
— А что? — спросил Некрасов. — Красивая ария.
— Может и красивая, но я-то ее петь не буду.
— Почему же?
— Потому что она для сопрано написана.
— А вы спойте на три-четыре тона ниже.
— Вы что, издеваетесь?
— Нет. Судить вас здесь никто не будет. А вещь красивая. Особенно второй вариант текста…
— Болтаете попусту…
— Не будем ссориться, друзья мои, — попросил отец Михаил. — Пожалуйста. Спойте эту арию, что вам стоит.
А ведь помрет Пушкин, подумал Некрасов сокрушенно. Ему срочно нужно в больницу. Но скорая помощь по водам не прибудет, здесь не Венеция.
— Ладно, попробуем, — вдруг согласилась Аделина, возможно, думая о том же. — Сыграйте первые пару тактов.
Некрасов сыграл.
— Ниже, — попросила Аделина.
Он сыграл ниже.
Это было совпадение — простая случайность. Так, во всяком случае, думала Аделина, а что думал по этому поводу отец Михаил, ей было неизвестно, да и не интересовало ее это.
Изначально об Аделине думали, что она сопрано, и репертуар она себе прикидывала соответствующий. То бишь — звездный. И ария Тоски из второго акта одноименной оперы была ей знакома. Она помнила слова. И даже мелодию. И даже помнила — смутно — где именно нужно, как любили веристы, по выражению Николая Римского-Корсакова, «цепляться» голосом за мелодию. Но она не была уверена, что сумеет все это ухватить.
— Visi d'arte, visi d'amore…
— А по-русски? — бестактно и нелепо вмешался отец Михаил.
Некрасов прервал аккомпанемент.
— Вы меня перебили… — возмутилась Аделина. — Вы что!
— Аудитория по-итальянски плохо понимает. Это упущение, следствие многих лет жизни страны в отрыве от остального мира, — объяснил Некрасов, косвенно поддерживая отца Михаила, сглаживая бестактность.
Отец Михаил кивнул Некрасову, сделал движение, похожее на поклон, по адресу Аделины, и отошел к пастве.
Аделина вздохнула.
— Второй вариант, — сказал Некрасов.
— Напомните слова.
— Зная только… Ну?
— Помню.
Он снова сыграл первые два такта и остановился. У арии не было вступления. Веристы вообще не жаловали вступления. И Аделина запела.
Зная только
Любовь и искусство,
Живой душе вреда я не приносила.
Нередко в тайне
Нищим и страждущим я помогала…
Некрасов чудом не ошибся в модуляции — тональность была ему мало знакома — но попал в ноту, и только один аккорд вышел слегка неряшливый. Плывущий веристский ритм, плывущая гармония, сейчас Аделина должна вступить, но не сразу, а «цепляясь» за мелодию — помнит? не помнит?
Она помнила.
Денно
С молитвою кроткой
К небу искренне я обращаюсь, колени склонив.
И каждый день цветы я…
Дальше мелодия арии совпадала с лейтмотивом Тоски, и ритм в этом месте был очень четкий. Некрасов вышел из басов и дотянулся левой рукой до верхних нот.
Смена тональности, ритм снова поплыл.
… Теперь, когда страдаю я,
Рабу свою отверг Ты,
Твоей служанке это ли награда?
Низковато, думал Некрасов, изображая клавиатурой переливы оркестра. Она и сама уже поняла, что низковато, но остановиться нельзя, далеко ушли, да и хорошо у нее получается. И у меня хорошо получается. Сейчас полезем вверх, и ей будет легче.
Алмазы дала я для мантии Мадонны,
Песнь моя славит
Ангелов твоих, Господь, небесных…
Но в горести моей…
Некрасов вдавил педаль и ушел в басы обеими руками, а затем пробежал вверх по хроматической гамме, и Аделина снова зацепилась голосом за мелодию, и выдала мощную верхнюю ноту в измененном лейтмотиве:
За что, за что, за что, Господь!..
Некрасов убрал ногу с педали.
Некрасов приглушил аккомпанемент.
почти прошептала Аделина, а затем бархатным своим меццо вывела, акцентируя тонику:
Так платишь Ты рабе своей, Господь?
В концертном варианте в этом месте следовало остановиться, но вагнеровская «бесконечная» мелодия, позаимствованная веристами для своих нужд, требовала себя продолжить, ибо вселенная вечна и души бессмертны, и Некрасов с Аделиной, не сговариваясь, продолжили. Некрасов, набрав побольше воздуху, пропел баритонально, имитируя строгий голос городского диктатора Скарпиа:
И Аделина завершила сцену на низкой ноте, больше подходящей именно меццо даже в оригинальном варианте:
Музыка стихла.
Настроение у паствы было — у всех по-разному, но никто не был уверен, что только что исполненный опус великого итальянца на это настроение повлиял. Всем вспоминалось разное — кому какие-то карьерные эпизоды, кому бывшие любовники и любовницы, кому теплый юг и ласковое море. И даже отец Михаил, человек в плане искусства неискушенный, но оценивший исполненное — не зря же именно он почувствовал, что нужно попросить Аделину что-нибудь спеть — промолчал. И Некрасов молчал. Амалии вспомнилась ее дочь, великая, блядь, теннисистка. Стеньке вспомнилось почему-то раннее детство, момент, когда он перепугался вусмерть, прочтя гоголевского «Вия», и пытался пугать друзей во дворе, но на друзей рассказы его не производили никакого впечатления. Кашину вспомнилось, что давеча Малкин рассказывал про одну особу, проживавшую в Норвегии, коя особа покрыта была с ног до головы очаровательными веснушками. При этом Кашин предполагал, что Малкин пиздит — не было у него с этой веснушчатой особой никаких отношений, ни сексуальных, ни дружеских, а, скорее всего, сказала ему особа что-то такое, Малкину, может по-норвежски, а может по-английски, а Малкин не понял, испугался и скис. Марианне вспомнилось, что подруга ее детства, отбившая во время оно у Марианны потенциального жениха, а потом бросившая его, сейчас блистает на московской эстраде, выдавая нелепые па ногами и улыбаясь идиотской улыбкой снисходительной публике с огромными животами и бюстами. Что вспоминалось Пушкину — неизвестно, но, как ни странно, во время исполнения раненый, в бреду, не произнес ни слова. И сейчас тоже не произнес. И Кудрявцев в безупречном, как только что заметили Стенька, по стечению обстоятельств, и Милн, по склонности, понимавшие в этом толк, итальянского стильного покроя костюме, ничего не сказал, ни слова.